
От редакции. Статья, которую предложил нам для публикации Олег Викторович Кириченко, представляет собой не только критику очерка Анатолия Байбородина «Поле брани Виктора Астафьева», опубликованного РНЛ, но и претендует на некое теоретическое обоснование места, которое занимал, по мнению автора, Виктор Петрович Астафьев, как представитель правого течения в русской патриотике. Это правое течение, по мысли автора, которое в отличие от левого, представленного Александром Андреевичем Прохановым и кругом газеты «Завтра», и центристского, представленного «Русской народной линией», характеризует прежде всего антисоветизм. С этим можно согласиться, но тогда нужно признать вполне закономерным, что эти самые правые патриоты неизбежно оказываются союзниками антисоветчиков-демократов, как им стал и В.П. Астафьев. Но что самое главное - ахиллесовой пятой «правых патриотов» является антигосударственность, которая логично вытекает из их антисоветизма, сколь бы они не прикрывались для оправдания своей позиции народолюбством. Тем не менее, мы считаем дискуссию по этому поводу полезной, а потому решили опубликовать текст О.В.Кириченко.
***
За Астафьева нелегко вступаться в своей, русской и нередко церковно-православной среде. Вот это последнее больше всего и смущает: в «русской, православно-церковной среде». Смущает не то, что приходится это делать, а что Астафьев оказался для русской патриотической среды «нерукопожатной фигурой». С горечью прочитал трехсоставной очерк Анатолия Байбородина «Поле брани Виктора Астафьева», с двусмысленным, как выясняется после прочтения, названием, к которому автор, думаю, не без иронии добавил «ко дню памяти русского писателя».
Тихой сапой без громких заявлений, по-деревенски основательно, по-писательски образно, автор - давний знакомец покойного Виктора Петровича - слагает гряда к гряде, компромат на его душу. Обвинив того в самых страшных грехах, вплоть до Иудина греха, автор заканчивает свой очерк благостно, не за упокой, а за здравие, с полной надеждой... но вот только на что? Непонятно. Вот некоторые из «выстраданных» им обвинений, выдвинутых против Астафьева: «Я повёл речь о писателе Астафьеве, и зачем же помянул предзакатного Тургенева, Толстого?.. А затем, чтобы показать идейную близость сих писателей в их позднюю пору, дабы заодно и подтвердить сказанное раньше: про усопших писателей грех говорить скверно, да и про всех ближних, живых и мёртвых, но растолковать простоватому книгочею о их мировоззренческих блужданиях во тьме, - не грех, но лишь во благо нынешних и грядущих читательских душ». «Краснопевец-енисеец, случалось, солоно солил, остро перчил бывальщины и байки; и соромщина, словно трава-дурнина в житном поле, вскоре проросла и в художественной прозе - вспомним роман "Прокляты и убиты"». «Отчалив от патриотов к либералам». «Русский националист с юдофобскими замашками». «Вдруг вошёл в сговор с теми, кого вчера клял». «Гулко и зло хлопнув русской дверью и метнувшись из ватаги русофилов в стаю русофобов». «Астафьев, словно в странном и страшном сне, вдруг из воинственного русофила обратился в столь же воинственного критика русофилов». «Вчерашний пламенный подвижник русского национального возрождения Виктор Астафьев вышел на поле брани против русских националистов, - против Белова, Распутина, Проханова, Куняева, Личутина и других писателей, что вчера были его друзьями, ныне прослыли его врагами, чумой красно-коричневой». «Не на ту лошадку поставил (не понял он. - О.К. ), что никогда русским националистам не властвовать в России, и пришлось Виктору Петровичу давать задний ход и начиная с 1989 года постепенно разыгрывать еврейско-демократическую карту». «Такой кульбит (продажность демократам за 15 томов собрания сочинений - О.К.), вполне ожидаемый людьми, близко знавшими В. Астафьева». «Виктор Астафьев в поздних произведениях, сознательно ли, безсознательно, художественный талант утрудил не для воспевания праведника, а на суровое обличение народа, отчего в слове рухнула живописная гармония Света и Тьмы, и проза стала утрачивать былое народное любомудрие, свет и красу. В обличительных речах и письмах Астафьева словно выстудилась на лихом и ветреном перевале веков былая сострадательная любовь к ближним, и даже родным деревенским».
Суммируем собранный материал: Астафьев оказался в конце жизни, как Л. Толстой и И. Тургенев, в глубоком духовном кризисе, который накапливался долгие годы (но в душе он всегда был ненадежным русским), и главная причина - их автор выделяет две - в конформизме Астафьева (как страстный игрок он «не на ту лошадку поставил»), и в его честолюбии, из-за которого (15 томов собрания сочинений) он и согласился «душу дьяволу продать». Обвинения серьезнейшие, но непонятно одно: зачем этот всполох зарниц именно сейчас, если статья писалась аж с 1998 г.? Или просто писатель подвернулся под горячую руку? Или настал момент напомнить всем своим, освежить в памяти деяния одного из талантливых, но падших перебежчиков?
Склоняюсь к последнему объяснению, потому что здесь звучит сакральное «чтобы помнили». По-русски это: чтобы помнили! Но не по-русски, чтобы так помнили своего собрата никогда не отказывавшегося, как Тургенев от своей русскости, большой и малой; и от своей православной веры, как это сделал Л. Толстой. Так, что с огульной неправды началась запевка у автора статьи. А дальше - больше! «Перебежчик, конформист, предатель и нравственный растлитель!» Но разве Астафьев бегал из стана в стан, менял свои убеждения? Автор же знаком с эпистолярным дневником Виктора Петровича, где год за годом писателем фиксировались его взгляды на жизнь, с середины 1950-х. И как рано, еще в самой глубинке советской утробы, Астафьева начинают посещать чуждые для советского человека мысли. Нет, не мысли юркого диссидента, а мысли большого народолюбца, природолюбца, русского человека, скорбящего о несовершенстве окружающего мира. Очень рано Астафьев стал избавляться от советской шелухи, однако, уже присохшей к коже, и, потому, делать это ему было больно, и может быть еще потому, что казалось, что это собственная кожа?
Спасала удивительная способность писателя с жалостью и сочувствием относиться к тому подлинно настоящему, скорбному, трагическому, скрытому, порой, в самом невзрачном человеке - его современнике,- чаще женщине. Это же очевидно, что народ Астафьев считал не миллионами, не массами, а поштучно, собирая в свою копилку драгоценную коллекцию людей из народ, таких, как братья Снегиревы из романа «Прокляты и убиты». Голгофские, евангельские образы! А в «Затесях» сколько мелькает этих одиноких и неприкаянных судеб, людских, птичьих, земных, подвластных только не наигранному человеческому сочувствию, - собранных писателем в случайной пестроте жизни. Он заметил их, согрел своим вниманием, сохранил на своих литературных страницах. В. Курбатов, старавшийся не судить, а понимать Астафьева всякого, в одном из предисловий (2004 г.) написал, что «срывы» (так он назвал т.н. «предательство» писателя) - это тоже часть писателя: «печаль усталости и знания, горечь разочарования и тревога за людей. Но это всё-таки был именно один, один русский писатель во всем размахе русскости, где редка осмотрительность, а чаще - край, где бывают близки побуждения заплакать и ударить... Он служил правде, как определил ему Господь, и не носил масок». На склоне лет душа Астафьева, по его словам «возросла до христианства». Не ушла от Бога, а приблизилась к нему. Хотя именно в первый период творчества «он так изострил наше зрение, так возвысил сердце, так растрогал душу, что мы не могли не смутиться, зазвенела первая нота предчувствия "Печального детектива"...». И, по-моему, астафьевская жалость к своим малым героям даже не материнская, а отцовская, патриархальная жалость, жалость старика-большака, кровно, порой до судорог телесных, (которых никому не видно) болеющего за свой род. Нет у нас более жалостливого к человеку, к русскому человеку, писателя в XX в., чем Астафьев. Кого из либералов, «которых вчера клял» Астафьев пригрел у себя на груди, сделал своим новым другом, впустил в свой дом? Никого! Надо полагать, что и Ельцин сам к нему приехал, а не Астафьев напросился к нему на прием.
Тут надо понимать, что Астафьев не был московским писателем; ни по прописке, ни по желанию вариться в этом особом бульоне. Вот почему приписывать ему роль политического борца просто нелепо, он никогда им не был, и не стремился им быть. Поэтому даже попадание в число сорока двух подписантов, известного бесстыдного обращения столичных интеллектуалов, не делает его таковым. И хотя вина на нем (в этом случае) есть, но, зная как такие вещи делаются, нетрудно понять, как было получено согласие Астафьева, ненавидевшего коммунистическое прошлое - как эпоху, раздавившую единство и цельность русского народа, его мощь и основы духовного бытия. Думаю, находясь в Москве и будучи в курсе быстро развивающихся событий, он бы поостерегся такой коллективный позорный опус подписывать, даже не любя советскую власть. Но этого не случилось.
Про «юдофобские замашки» как-то неловко слышать от человека, фотографировавшегося когда-то вместе с Астафьевым, а значит достаточно близко знавшего его. По-моему, просто совестно так говорить, как и про так называемый национализм писателя, не имеющий к нему никакого отношения. Юдофобство - это ненависть, как и национализм, которая сжигает человека; чувство, которым он живет и которым разрушает себя ежечасно. Православно-русскому человеку оно чуждо, иначе ему было бы не по силам освоить такую огромную территорию как наша страна. Как подлинный писатель и русский человек, Астафьев не мог жить вне любви, вне высоких и созидающих чувств; ненависть же, (которая не чужда любому великому сердцу) он употреблял лишь на защиту любви, на сокрушение зримого ей препятствия. Таким, скажем, был ответ Виктора Петровича Натану Эйдельману. Здесь нет и нотки антисемитизма, но лишь русский ответ на брошенный вызов. Ни религии, ни народу, ни сообществу, а конкретному человеку, плюнувшему в колодец из которого пьет. Астафьев и сказал тогда общие слова «о колодце», о дурной практике «плевать» и проч.
Здесь нельзя не обратиться к теме советской интеллигенции, которая помимо греха дореволюционной интеллигенции - «убийственной любви» к русскому народу - имела и другой грех: единство любви/ненависти к нему. Речь идет о ненависти - постоянном чувстве, уравновешивающей любовь, а не просто ненависти, как благородном отклике на вызов, брошенный любви. Откуда это взялось у интеллигенции; разбитой, растерзанной и разбросанной по материкам и странам в 1920-е годы, а потом в 1930-е годы опять появившейся молодой порослью среди остатков прежнего, досоветского охвостья? Убийственная любовь словно раскололась надвое; на убийственное чувство безудержной, но тайной ненависти, и на открыто выраженное любви к народу, как учила партия. Возможно, этому, молодую и неопытную советскую интеллигенцию и научила партия. Но думается, немалая учительская роль оставалась и за «охвостьем» - остатков старой интеллигенции, которой нужно было чем-то очевидным доказать свою идеологическую преданность советской власти. В общем, забрались тогда большевики, инженеры человеческих душ, в самое нутро образованного человека, и кое-что там сумели подкрутить и поменять. Ей - советской уже интеллигенции - молодой, новой, талантливой, такой разноликой и национально пестрой - и доверила партия народное дело, оставив себе народное тело. О страшной миссии - «уврачевать, а потом убивать» или наоборот - догадывались самые совестливые и искренне любящие свою Родину интеллектуалы, от учителей до физиков-ядерщиков. Догадывались и мучились этим. Но разлом в этой среде, начавшийся после кончины Сталина, пошел не по линии «совестливые/несовестливые», а, как и старалась советская власть, - по национальному признаку. Тогда и появилась, точнее, вернулась из небытия, разрушенная в 1920-е годы, русская партия в стане советской интеллигенции. Но уже на другой основе. В этих людях уже жила бацилла «любви/ненависти», в том числе к собственному русскому началу, помещенная туда советской школой воспитания человека. С этой бациллой жили представители интеллигентных сил и других народов. Их также разъедала и внутренне раздирала эта чисто советская болезнь. От советской болезни некоторых из них только спасала крепкая вера и церковность.
Виктор Петрович Астафьев был из тех духовно чутких от Бога людей, который имея в памяти от «своих стариков» какие-то важные вероучительные постулаты, перешедшие в конкретные поступки и поведение, всё время стремился им соответствовать, сближаться с ними, примерять свою жизнь с этими нормами. Это и было сдиранием советской пустозвонной шелухи, мешавшей его душе свободно дышать и развиваться.
Откуда у фронтовика Астафьева появилась такая война, которую не признали многие его друзья-современники и не признают многие современные русские мыслители? Она появлялась эволюционно, из естественного движения всей военной прозы фронтовиков, которая, как цветок, раскрывалась постепенно: народная героика Шолохова, Толстого, Твардовского, Симонова, Воробьева и множества других писателей времен войны, постепенно сменялась послевоенным поколением писателей и поэтов, и темами более человеческими, психологичными. Появилась т.н. «лейтенантская проза». В эту когорту вместе с Ю. Бондаревым поначалу входил и В. Астафьев, и многие другие. Здесь война соотносилась с молодостью, жизнью, любовью ее участников и этим побеждала ее. Но ушел в прошлое и этот драматургический конфликт «войны и мира». Постепенно фоном для противостояния войны и ее осмысления, стала обычная бытовая жизнь советских людей, начавшая дробиться и распадаться под напором новых веяний, начиная с 1970-х - и вплоть до начала постсоветских 1990-х. Вот когда у Астафьева начало копиться трагическое ощущение «крови, пролитой зря». Вспомнилось то из прошлого, чему раньше он, возможно, и не придавал особого значения. Но теперь, он стал смотрел на каждую ошибку, каждый промах (свою и чужую) на той войне не просто как на исторический факт, а метафизически - как на засеивание земли «зубьями дракона», а не как очищение ее кровью павших, как думалось раньше. Зубья драконовские потом взошли и стали алчностью, бездушием, чванливостью, подлостью - пороками, которые сплелись в одно драконье тело и ринулись истреблять души людей.
«Война» у позднего Астафьева, словно и не имеет право на ту Победу, которую мы сегодня ежегодно торжественно отмечаем, за которую так крепко держимся, и которой во многом руководствуемся в современной государственной идеологии. Отечественная война для Астафьева, в ее советской интерпретации (и исполнении), - это победа, доставшая слишком большой ценой. В конце жизни он считал, что победа была «пирровой», что война, не смотря на ее победный итог, не имеет права на праздник - на пляски, песни, романтическую героизацию, на пафосную парадность, на всё то, что хоть как-то затемняет ее трагический смысл. Роман «Прокляты и убиты» и был рассчитан на то, что читатель станет второй - покаянной и воскресительной - половиной его действа. Читатель довершит работу автора. Но этого не произошло. Читателю помешали.
Перейдем к обвинениям. 1960-е годы, лирично названные оттепелью, были, конечно же, даны Богом не для горстки поэтов (лириков из физиков), собирающих в столичных центрах наэлектризованную стихами аудиторию. Они должны были стать, по благодати выигранной всем народом Великой войны, временем духовного преображения всего русского народа, стремительного и безвозвратного возращения его в Церковь, в лоно своей духовности и истории. Но интеллигенция - и правая и левая - вся (!), опять, как и до революции, не допустила народ до такого «падения» (он же и так темный); уже лучше опять политики пусть храмы рушат и веру гонят, чем открыть народу дорогу в храм! А политикам это и нужно было, а совсем не диссиденты и их мелкотравчатое абстрактное искусство. Главное, что интеллигенция, повторяю и правая и левая (и городские трубадуры и деревенщики), позволила партии опять захомутать народ «по ленински и сталински» быстро и грубо, чтобы потом по-хозяйски, с облучка, внушать ему относиться к советской власти и войне, «по-идейному». Благодать, которую в радости Победы, переживал как радость и чудо каждый нормальный человек, была потрачена опять на стройки коммунизма, бок о бок с которыми шло истребление народа абортами (когда государство опять, как подарок за выигранную войну, предоставило народу эту возможность!), взрывы и закрытия храмов, гонения на священников, недавно вернувшихся из ссылок и лагерей, шла обыденная советская жизнь...
Думаю, что логика у Астафьева такова: почему победили, - взывает он - не пролитая святая кровь, а - мат, жестокость, бездушие, чванство?! Потому, что мы слишком легкомысленно отнеслись к этой войне (либералы - понятно, они делали то, что напевал про нас Запад). Имея огромный запас того положительного, что принесла Победа, мы бездарно растратили эту благодать на мелкие бытовые блага, на поддержание идеологической трескотни; речевки, марши, плакаты, пустые слова и т.д. И теперь уже не перед детьми, а перед правнуками стоит куда более сложная задача остановиться в своем раже накопительства (крупного и мелкого) и равнодушия. И разве он не прав в своем нелицеприятном обличении?
Сегодня народ уже сам вышел на улицы с портретами своих воинов, потому все мы вдруг почувствовали, что Победа, как не велика она - начинает уходит из наших рук, убегает из памяти... Это остро почувствовало мое поколение, рожденное в 1960-е (оно, мне кажется и доминировало в этом народном марше памяти), которое застало еще своих доживающих в селах и деревнях в 1960-е - 1970-е годы дедов-участников, еще сохранивших военную молчаливость и суровость, скоро раздавших внукам свои нехитрые медали на игры, потому что в деревнях не было ни парадных колон 9 мая, ни приглашений на школьные воскресники, всё было на сельский манер: собрались за столом и негромко помянули свои боевые дни. Но мы - мальчишки - откуда-то знали, что такое война.
Прав ли был в своей категоричной позиции Астафьев, когда рисовал войну в последнем романе только в черных красках? Не знаю. Во всяком случае, свою любовь/ненависть он вытащил наверх, на прилюдное обозрение. С этой, по сути советской позиции, он и ведет свой частный писательский суд над Историей, на который моральное право ему дает лишь его фронтовое прошлое. Не имея возможности совсем победить в себе посеянное зерно советскости, Виктор Петрович, делает единственное, на что у него хватало сил - вытащить на свет Божий эти постылые ему потемки советского бытия. В православии такой шаг называется покаянием, потому что всё сказанное про войну, военачальников, рассеченность и униженность души народной, он относил именно к своему «я». Это была его боль, его страдания и вина, его несовершенство. Это не был «объективно плохой Сталин или Жуков», это был астафьевский «плохой Сталин и Жуков». Свою славу они уже получили от Бога в виде Победы и славы на войне; но почему же не вспомнить и предать человеческому нравственному суду то многое, что скрывается от людей? Так не по совести считает Астафьев, мы не сможем, как страна, как народ, двигаться в историю дальше, если все вместе не осознаем всю глубину пропасти этой войны. Писатель, конечно, перегибал палку, когда говорил, что не пошел бы, случись война, на фронт. Думаем, никуда бы он делся, пошел бы. Но эмоции, из-за того, что его не слышат и не хотят слушать дорогие ему люди, уже захлестывали. Он ожесточался, видя, что симпатии к дутой советскости только растут, цена ее становится в условиях постсоветской разрухи и нестабильности всё выше; антисоветчиками не спешат делаться даже самые близкие друзья - писатели-деревенщики... Он стал терять самообладание, и потому, порой, невольно, оказывался в союзниках у тех, кто особенно звонко стал заявлять о своей антисоветскости, по привычке быстро переменив одежды, с советских на демократические, западные. Для Астафьева эти отношения носили отчаянно-временный, ситуативный характер, и ни в коем случае не были его духовной позицией. Никаким либералом, он никогда не был, это глупость и непонимание существа дела.
Даже, неожиданные его слова про сдачу Ленинграда и подобное прочее, слетали, мне кажется, на бумагу не как предательская власовщина или либеральное антипатриотическое бесстыдство, а как умозрительная, интеллигентская попытка напомнить про иной, в нашей истории, способ ведение войны. Такой, например, каким он был у Кутузова после Бородина. Не понималось, однако, что время Кутузова прошло вместе с появлением нового качества - мировой - войны, вести которую уже было не по силам командующему с христианским отношением к человеку, и может, поэтому и Россия потеряла свою сакральную верховную власть царя в 1917 г. Новая война требовала безжалостного тотального уничтожения миллионов людей и разрушения огромных территорий (живых земель с их населением, природой и культурой), против всех привычных христианской ойкумене правил и законов. Обольстительница и насильница советская власть духовно не готовила человека к великой войне, до 1943 г. Церкви не давали возможности более и менее свободно действовать в качестве «помощника и покровителя» русского солдата. Это не значит, что не было ни солдата Павлова, ставшего потом монахом и известным старцем, как и многих других покинувших мирскую жизнь ради монашеской молитвы; что не было Александра Матросова и Зои Космодемьянской, великого русского полководца Жукова. Но, по сути своей, это была война «неизвестного солдата», и такой ее сделала, конечно, не только советская власть, но та, враждебная - западная - сторона, которая обрушилась на нас в лице фашизма. Новая война, называемая мировой, была войной на выживание: людей, ресурсов, стран континентов и вообще человечества, поэтому человек был для нее ничто. К этому нас склонял Запад уже в 1914 г., но тогда не мог склонить; к этому же он нас склонял и склонил он в 1941 г. Именно - склонил! А это значит, что во Вторую мировую войну, в нашу Великую Отечественную, по большому счету, мы играли по правилам западных игроков. А правила эти включали не просто не православное отношение к человеку на войне, но - не христианское, антихристианское отношение к нему. Но мы выиграли войну потому, что вопреки всему, старались сохранять свое христианское, православное начало. Вот о чем нам надо не забывать.
Противоречие, в которое Астафьев сам себя поставил, заключалось, на мой взгляд, в невозможности всё объяснить, подвести всё под общий знаменатель. Новые законы войны требовали, в том числе от нашей страны, отказаться от понимания человека как образа подобия Божьего. Мы отказались, но всё же даже богоборческая советская власть не могла не дать определенную свободу православной вере и Церкви, в самые тяжелые годы войны. Это уже исключение из правила. Виктор Петрович ясно видит всю страшную картину глобалистского отношения к человеку в Отечественной войне и справедливо считает, что эта сторона была обойдена вниманием, в том числе русских писателей. И эту правду, считает он важным донести до будущих поколений. Но он не видит, что кроме господствующего «закона» на этой войне торжествовала еще и «благодать», пробившаяся в солдатские и офицерские массы не только снизу, но и в некоторой степени сверху. Из этого непонимания у Астафьева и появился перехлест говорить и писать о войне только в черных тонах.
Нравственная картина военной жизни, конечно, заслуживает более объективной и глубокой аналитики, потому что «закон» нового ведения войны все-таки основательно перепахивал тогда человека, затрагивал его самые глубокие, сущностные начала. И астафьевское слово здесь было не праздным. Мне, как этнографу, не раз приходилось в среде пожилых собеседниц-верующих слышать такие вещи: «пришел с фронта отец другим человеком; что-то звериное появилось в нем; до войны и мата такого - частого и едкого - от него жена никогда не слышала, и такого пьяного хулиганства не бывало, а тут просто житья никакого не стало. А детей надо растить, и они всё это видят и слышат. И стала молится Богу со слезами и с плачем, чтобы Он или его - мужа - забрал или меня. Нет больше силы всё это терпеть. И Бог забрал мужа». Не об этом ли говорил сам Астафьев в письме к В. Болохову: «Более того, я вот и сам понял, что ныне делаю тоже "антилитературу", и какое-то время она будет царить в российской словесности, и хорошо, если какое-то время, хорошо, если великая культура прошлого выдержит её накат, а будущая жизнь будет так здорова и сильна, что устоит перед ее страшной, разрушительной мощью» (В. Астафьев. «Нет мне ответа...», с. 577). Для чего он создавал антилитературу, понимая, что за его «Проклятых и убитых» на него падут проклятия современников, не готовых видеть в новой войне то, чего она заслуживает? Но, заметим, что пишет Астафьев не с бравадой или унынием, а с верой в то, что его антилитература сослужит свою службу - прививки от инфантилизма и беспечности, потому что ждут нас впереди еще более грозные испытания, в которых сохраниться человеку будет в сотни раз труднее. Зловещим предзнаменованием звучат его слова: «коммунисты еще хлопнут дверью, уходя с исторической арены». Может и так случиться, во всяком случае, силы они опять собирают немалые.
Теперь о славянофильском табу не говорить о своем народе плохое, которое многократно и нарочито нарушал Виктор Петрович в своей публицистике и последних художественных произведениях. Не поступил ли он также как известный перебежчик Печорин, или «повернувшийся умом» Чаадаев? Думаю, что нет. Астафьев себя не отделял от народа, жил среди него, и потому все его самые обидные слова общего характера, когда народ как таковой обладает теми или иными нехорошими нравственными качествами, относились и к самому писателю, как части этого народа. Он это понимал. Попробуйте, поставьте в нужных местах вместо слова «народ», слово «Астафьев», и может быть будет легче воспринимать эти гневные обвинения. Нас смущает и от возмущения знобит, что его стариковская горечь изливалась прилюдно, на глазах наших недружественных соседей и так уже взявших, где можно верх над русской жизнью. Как с эти быть? Надо помнить, что даже его публицистический дневник «Нет мне ответа...» писался не сплошным потоком писем, с негативными оценками своего народа, напротив, эти оценки надо собирать в большом массиве писем и заметок. И когда они собираются вместе, то действительно выглядит тяжеловато, как эссенция, которую как сок уже не выпьешь. В общем же потоке, где доброго о русском народе сказано не меньше, а даже больше, всё выглядит несколько иначе; именно, не как старческое, тяжеловесное и злое брюзжание, а как право большого русского писателя, пророка, если хотите на отеческий разговор не с абстрактным народом, и не с его самолюбивой интеллигенцией, а с конкретным народом, который хоть и в крупицах своих уже, но - народ. В общем, не постыдился, Виктор Петрович, по-своему юродствующему обыкновению, прилюдно осрамить и осрамиться. Может быть, действительно мы - русские - дожили уже до этого, что и при людях не стыдно уже стало браниться и бранить себя?! Слишком расползлись по городам и квартирам, так что уже и собрать русского человека стало не просто и поговорить с ним непросто. Сходок сельских нет, собрания закончились, застолья вырождаются, песни только в кино... Русский интеллигент, как хранитель чести народной, может, конечно, обижаться на всё резко сказанное Астафьевым, только этим он народ русский не защитит, народ лишь сам может себя защитить. Лишь бы он оставался народом.
Подытожим сказанное. Определимся с местом, которое занимает В.П. Астафьев в русском патриотическом лагере. Современные адекватные патриотические силы, не выходящие за рамки закона - государственного, религиозного, нравственного - состоят из трех ветвей: правых, левых и центристов. Так получилось, что только русскость объединяет это пестрое сообщество. Разъединяют же две вещи: отношение к православию и к советской эпохе. Центристы - это большей частью последовательные сторонники позиции руководства и актива портала «Русской народной линии», с А.Д. Степановым во главе. Здесь православие является основой мировоззрения, а положительное отношение к советской эпохе подчеркивает преемственность русской (российской истории), что подразумевает и опору на всё лучшее, что имела советская эпоха. Позиция, как говорится, идеальная, но не бесспорная. Левое крыло, ярко представлено газетой «Завтра» и общественным движением «Изборский клуб», возглавляемый А.А. Прохановым. Православие для этих людей хотя и является цивилизационной ценностью, но не большей чем ислам и традиционные российские секты. Объясняется подобная духовная широта следованию евразийству, в его современной интерпретации. Отношение к советскости и всему советскому самое горячее и трепетное. Также левых в теоретических декларациях волнует идея преемственности российской истории (от империи к империи), но все же главный их интерес в советском периоде. Всё плохое в этой эпохе, по их мнению, идет от отступления от советской идеи, разрушения ее т.н. партийными функционерами перерожденцами. В этом сегменте идет постоянная и яркая апелляция к русскости, что притягивает сюда тех левых, которые нередко не в ладу с законом, от Лимонова и далее. Именно прохановские левые сегодня добились наибольших результатов на политическом поле борьбы, их принимают на высоком административном уровне в регионах, а также на уровне глав государств, за границей (в мусульманском мире). Левые и центристы сегодня наиболее структурированные и «оцифрованные силы», ведущие активную полемику в интернете, социальных сетях и массмедия.
Теперь о правых. Их как будто и нет, они рассеяны и не собраны не одно крупное информационное издание, не структурированы, не имеют лидера, словом всё у них плохо. Не сформировалась теоретически и их позиция по указанным двум вопросам. Точнее эта позиция может быть прописана, но она еще не прожита, не отвоевана, не озвучена людьми правого крыла. Правого, не значит радикального (как на Украине), и не значит либерального, как это с 1990-х годов стало модно обозначать. Правого, скорее, как консервативно-народного. И если сравнить это направление с центристами, то их консервативность следовало бы обозначить как консервативно-интеллигентную точку зрения. В.П. Астафьев был из плеяды правого крыла русских патриотических сил. Он был противником всего советского, но сторонником православных начал. Однако, в позиции Астафьева, как удалось выяснить, были свои изъяны и ошибки, вызванные, как теперь понятно, его одиночеством, необходимостью действовать в условиях жесткого давления не только со стороны антирусских сил, но и со стороны русских. Самые главные из этих ошибок: 1) отказ от романтического отношения к Великой Отечественной войне, при описании войны реалистической; отсюда ошибочный отказ от Победы как государственного и народного праздника и торжества; отсюда вытекает недопустимость резких оценок самых известных военачальников; 2) при том, что судьба русского народа стала у Астафьева во главу угла при художественном и публицистическом описании советской эпохи, но православие и православность русских не стала для него стержнем понимания событий и описания их. Отсюда очень много субъективного, эмоционально несправедливого и проч. в оценке русских в это драматичное время.
Ошибки и просчеты остаются на его совести, но его великой заслугой было обозначение правого - народно-консервативного направления в русском патриотическом движении. Понятно и другое: именно за эту свою позицию - не опираться на пример советской эпохи, а рассматривать ее как время тяжелейших испытаний для русского народа, навязанных ему чуждой властью - он и был, по большому счету подвергнут остракизму, и до сих пор подвергается жесткой и нелицеприятной критике со стороны русских патриотов. Идейным заказчиков данной статьи выступила, думаю, прохановская группа левых. Не случайно, автор с таким сердечным чувством отозвался о современном художественном творчестве Александра Андреевича. Именно левые сегодня - локомотив всего русского патриотического движения, а сам Проханов - это еще и сладкоголосая сирена, уводящая опять всех нас в коммунистическое завтра. Он знает, где находится завтра, и какое оно! Свои скупые симпатии, автор очерка об Астафьеве, конечно, получил и от руководства и актива «Русской народной линии», опубликовавшей его труд.
Почему же, как писал Пушкин, молчит народ? Почему народно-консервативные силы не формируют реалистическую позицию, не структурируются, а отдают опять утопистам (умеренным - центристам и радикальным - левым) право выстраивать будущее? И это при том, что народно-консервативных сил сегодня в обществе сегодня абсолютное большинство! Левые и центристы - лишь узкая прослойка русских патриотов и активность их, как ни странно, вызвана именно пунктом «отношения к советской эпохе». И надо понимать, что отношение не есть вопрос материальных достижений советской власти, а вопрос отношения к русскому народу: или оно практическое, реальное, как у правых, или теоретическое, как у центристов и левых. Если для последних вопрос о советской эпохе (теоретически положительное отношение к русскому народу) является главным, то у правых оказывается на первом месте тема православия, как принципиальный и главный вопрос возвращения русскому этносу православной веры, духовности и церковности, как составной части этнического самосознания. Тему же советскости (практически положительное отношение к русскому народу и русскому вопросу), которую никто из правых не отрицает, они рассматривают как святое бремя памяти: а) молитвенно-литургической - за убиенных и умученных за веру, за Отечество, в годы Великой Отечественной войны и т.д.; б) человеческой, родовой - о нашем народе, потерявшем за 100 лет по разным причинам, если следовать подсчетам Д.И. Менделеева такое количество, которое не описывается официальными суммарными цифрами потерь в войнах (гражданской, Великой Отечественной, локальных), эмиграциях, болезнях, голоде, эпидемиях и т.д. в XX в.; в) и, наконец, памяти исторической, указывающий на преемственный характер русской и российской истории, но преемственной не так как ее видят прохановцы и центристы - как позитивное изменение (приспособление) к исторической реальности Российского государства, являющего формой самоорганизации народа. Преемственность русской истории для правых в другом; в более важном и сакральном - в Промысле Божьем, которым ведется русский народ по историческому пути, включая и советское время. Именно Промысел Божий заставляет действовать политическую власть, даже нерусскую, в какой-то период, по определению, в духовных (не материальных) интересах народа. Водительствуется в России Богом не государство (при всей важности и заслуженности перед народом этой структуры), а народ, в его этническом и религиозном понимании. Объединиться сторонникам правого крыла на такой «призрачной» платформе весьма и весьма нелегко. Вполне возможно, что со временем центристы войдут в число правых, отказавшись от некоторых своих важных заблуждений в отношении советского времени и его героев. Время покажет. Но Виктор Петрович Астафьев, в этом я глубоко уверен, был человеком правых убеждений, и Царство Небесное ему за его добрые труды!











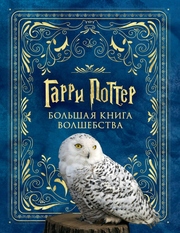


















1. Re: За Виктора Петровича Астафьева!