 Один из важных эпизодов творческого взаимодействия двух писателей - подготовка сборника под названием «Складчина». Гончаров не только являлся одним из авторов сборника, издаваемого в пользу голодающих Самарской губернии, но и был одним из его составителей. 15 декабря 1873 года он присутствует у В. П. Гаевского на организационном собрании русских литераторов, которое было посвящено изданию «Складчины», и избирается редактором сборника. 10 февраля 1874 года Гончаров встречается с Достоевским по поводу сборника «Складчина» и, возможно, именно в этот день принимает от Достоевского для сборника «Маленькие картинки». Однако Гончарова не все удовлетворило в произведении Достоевского, который также допустил в «Маленьких картинках» негативное изображение священника. Уже 11 февраля Гончаров пишет Достоевскому письмо, в котором делает «попытку склонить автора к изъятию из очерка некоторых мест, рискованных в цензурном отношении»: «Я не утерпел и прочел Ваш очерк вчера, глубокоуважаемый Федор Михайлович, и спешу сообщить Вам свое личное впечатление и мнение, прежде нежели представлю рукопись в комитет.
Один из важных эпизодов творческого взаимодействия двух писателей - подготовка сборника под названием «Складчина». Гончаров не только являлся одним из авторов сборника, издаваемого в пользу голодающих Самарской губернии, но и был одним из его составителей. 15 декабря 1873 года он присутствует у В. П. Гаевского на организационном собрании русских литераторов, которое было посвящено изданию «Складчины», и избирается редактором сборника. 10 февраля 1874 года Гончаров встречается с Достоевским по поводу сборника «Складчина» и, возможно, именно в этот день принимает от Достоевского для сборника «Маленькие картинки». Однако Гончарова не все удовлетворило в произведении Достоевского, который также допустил в «Маленьких картинках» негативное изображение священника. Уже 11 февраля Гончаров пишет Достоевскому письмо, в котором делает «попытку склонить автора к изъятию из очерка некоторых мест, рискованных в цензурном отношении»: «Я не утерпел и прочел Ваш очерк вчера, глубокоуважаемый Федор Михайлович, и спешу сообщить Вам свое личное впечатление и мнение, прежде нежели представлю рукопись в комитет.
Вы, конечно, без моей критики очень хорошо знаете, как своеобразны, умны и верны характеристические заметки о наших путешественниках, служащие интродукцией к Вашим «Маленьким картинкам». Они одни могли бы сами по себе составить капитальное приношение в «Складчину».
Но чему Вы, кажется, сами мало придаете цены, так это тонкому и меткому очерку «приживальщика» больших домов, «таланту», как Вы назвали его, который вдруг овладевает общим вниманием в вагоне. Говорю - мало придаете цены ему, потому что Вы бросили его небрежно, вроде какого-то аксессуара к «картинкам», тогда как он и есть сам первая картинка. А у вас он явился, как общее место: «есть или бывают такие» - Вы дали ему это безличное значение, и между тем незаметно будто, водя карандашом по бумаге и не думая, Вы нарисовали, или, лучше сказать - сама рука художника, сильная и привычная, нарисовала полный, законченный очерк.
Если б Вы тут захотели и остаться - Вы и тогда уже дали бы щедрый вклад, без продолжения. Например, М. Е. Салтыков начинает свою статейку также интродукцией, в которой есть несколько штрихов полей, ведущих к городу, и только въехал в город - тут и простился с читателем, дальше не пошел. У него, в интродукции, звучит какой-то задумчивый, серьезный мотив - и только. И все это составляет шесть, семь страниц.
А у Вас (или скорее у нас, у «Складчины») есть в перспективе еще «картинки». Это клад.
Простите меня за эту, так сказать, невольную критику. Я не позволил бы ее себе, если б меня не побуждала к тому обязанность члена комитета, и я хочу выразить только Вам, как важно для «Складчины» приобретение такого приношения, чтобы и Вам самим сообщить тот взгляд, каким мы руководствуемся относительно авторских вкладов - для Вашего соображения о значении, объеме etc. etc.»
Гончаров, очевидно, не случайно уделяет столько внимания типу «приживальщика» и притом «таланта». Дело не только в том, что Достоевскому этот тип удался. Дело прежде всего в том, что Гончарову этот тип оказывается близок творчески, ибо он неоднократно в своих произведениях к нему обращался. Первый опыт Гончарова в этом роде - образ Антона Ивановича из «Обыкновенной истории». Любопытно, с этой точки зрения, приглядеться и к образу Опёнкина из романа «Обрыв». В нём проглядывают черты Мармеладова и иных трагикомических героев Достоевского. В романах Гончарова собрано множество второстепенных персонажей, психологических бытовых типов, каждый из которых представляет собою законченное создание, вызывающее неподдельный интерес. Некоторые из них несколько неожиданны. Например, образ несостоявшегося священника, горемычного Опенкина, в романе «Обрыв».
Опенкин - не совсем обычный тип для русской литературы. «Это был скромный и тихий человек из семинаристов, отвлеченный от духовного звания женитьбой по любви на дочери какого-то асессора, не желавшей быть ни дьяконицей, ни даже попадьей» (Ч. 2, гл. XIX). Неисполнение своего долга перед Богом, уход от духовного призвания, служения церкви привел героя к жизненной драме. Его семейная жизнь не сложилась, и он стал выпивать, стараясь как можно больше времени проводить вне дома. «Он ли пьянством сначала вывел ее из терпения, она ли характером довела его до пьянства? Но дело в том, что он дома был как чужой человек, приходивший туда только ночевать, а иногда пропадавший по нескольку дней» (Ч. 2, гл. XIX).
Самая яркая характерная черта Опенкина - его речь, наполненная церковно-славянской лексикой. Эта речь по-своему торжественна, даже высокопарна, как и речь пьяницы Мармеладова в «Преступлении и наказании» Достоевского. Между героями обнаруживается некоторое сходство: Мармеладов, витийствуя в трактире, силится «восстановить лицо» и как бы призывает окружающих не забывать, что и горький пьяница имеет «лик Божий» и является все-таки человеком, Божиим созданием. Витийствуя, он поднимает главный вопрос - и своей, и всякой человеческой жизни: вопрос о спасении, вопрос об отношениях человека и Бога, вопрос о Божием милосердии к человеку: «... А пожалеет нас Тот, Кто всех пожалел и Кто всех и вся понимал, Он единый, Он и судия. Приидет в тот день и спросит: «А где дщерь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?» И скажет: «Прииди! Я уже простил тебя раз... Простил тебя раз... Прощаются же и теперь грехи твои мнози, за то, что возлюбила много...» И простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит... И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...?» И прострет к нам руце Свои, и мы припадем... и заплачем... и все поймем!... Господи, да приидет Царствие Твое!» (Ч. 1, гл. II).
Обращение к библейским сюжетам, церковно-славянская лексика - характернейшая принадлежность и господина Опенкина в «Обрыве». Самые простые житейские ситуации он «обрамляет» в библейский контекст, проводит параллель с библейскими персонажами и т. п. К Марфеньке он обращается со словами: «Марфа Васильевна! Рахиль прекрасная, ручку, ручку...». О подделках дорогих вин Ватрухиным он говорит: «Теперь война, например, с врагами: все двери в отечестве на запор. Ни человек не пройдет, ни птица не пролетит, ни амура никакого не получишь, ни кургузого одеяния, ни марго, ни бургонь - заговейся! А в сем богоспасаемом граде источник мадеры не иссякнет у Ватрухина! Да здравствует Ватрухин!» Слугу Якова он встречает словами: «А! богобоязненный Иаков!... приими на лоно свое недостойного Иоакима и поднеси из благочестивых рук своих рюмочку ямайского».
Как и Мармеладов, Опенкин - человек кроткий и беззлобный. Сам о себе он говорит: «Кабак! кабак! Кто говорит кабак? Это храм мудрости и добродетели. Я честный человек, матушка: да или нет? Ты только изреки - честный я или нет? Обманул я, уязвил, налгал, наклеветал, насплетничал на ближнего? изрыгал хулу, злобу? Николи! - гордо произнес он, стараясь выпрямиться. - Нарушил ли присягу в верности царю и отечеству? Производил поборы, извращал смысл закона, посягал на интерес казны? Николи! Мухи не обидел, матушка: безвреден, яко червь пресмыкающийся...»
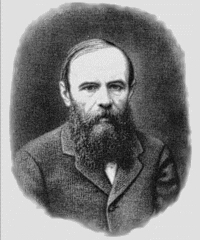 Мармеладов опустился на самое дно жизни. Но главный штрих его личности - не пьянство, а покаяние, сознание своего ничтожества. Он обращается к Евангелию - и тем самым свою упавшую в грязь городского дна жизнь старается «приподнять», осмыслить в евангельском свете. Он понимает, что обращение к Священному Писанию для него, падшего, возможно лишь через личное покаяние и для покаяния. Мотивы покаяния, самоуничижения у Опенкина звучит иначе: всех, кроме себя самого, он «приподнимает» до положительных библейских героев, себя же определяет как героя, негативно определенного в Ветхом Завете. Так, Марфенька названа им прекрасной Рахилью. Ведь именно в это время Викентьев сватается к Марфеньке, подобно тому, как Иаков сватался к Рахили, дочери Лавана. Она была добродетельна и притом столь прекрасна, что Иакову не жалко было отдать семь лет своей жизни Лавану, работая на него за то, чтобы Рахиль была отдана ему в жены (Быт. 29; 1-28 ). Слугу Якова Опенкин называет «богобоязненным Иаковом» - и тоже не случайно: Яков религиозен, и очень любит слушать рассказы из Священного Писания. Не лишена комизма сцена, в которой Опенкин повествует о пророке Ионе: «Яков тупо и углубленно слушал эпизоды из Священной Истории; даже достал в людской и принес бутылку пива, чтобы заохотить собеседника к рассказу. Наконец Опенкин, кончив пиво, стал поминутно терять нить истории и перепутал до того, что Самсон у него проглотил кита и носил его три дня во чреве.
Мармеладов опустился на самое дно жизни. Но главный штрих его личности - не пьянство, а покаяние, сознание своего ничтожества. Он обращается к Евангелию - и тем самым свою упавшую в грязь городского дна жизнь старается «приподнять», осмыслить в евангельском свете. Он понимает, что обращение к Священному Писанию для него, падшего, возможно лишь через личное покаяние и для покаяния. Мотивы покаяния, самоуничижения у Опенкина звучит иначе: всех, кроме себя самого, он «приподнимает» до положительных библейских героев, себя же определяет как героя, негативно определенного в Ветхом Завете. Так, Марфенька названа им прекрасной Рахилью. Ведь именно в это время Викентьев сватается к Марфеньке, подобно тому, как Иаков сватался к Рахили, дочери Лавана. Она была добродетельна и притом столь прекрасна, что Иакову не жалко было отдать семь лет своей жизни Лавану, работая на него за то, чтобы Рахиль была отдана ему в жены (Быт. 29; 1-28 ). Слугу Якова Опенкин называет «богобоязненным Иаковом» - и тоже не случайно: Яков религиозен, и очень любит слушать рассказы из Священного Писания. Не лишена комизма сцена, в которой Опенкин повествует о пророке Ионе: «Яков тупо и углубленно слушал эпизоды из Священной Истории; даже достал в людской и принес бутылку пива, чтобы заохотить собеседника к рассказу. Наконец Опенкин, кончив пиво, стал поминутно терять нить истории и перепутал до того, что Самсон у него проглотил кита и носил его три дня во чреве.
- Как... позвольте, - задумчиво остановил его Яков, - кто кого проглотил?
- Человек, тебе говорят: Самсон, то бишь - Иона!
- Да ведь кит большущая рыба: сказывают, в Волге не уляжется...
- А чудо-то на что?
- Не другую ли какую рыбу проглотил человек? - изъявил Яков сомнение.
Но Опенкин успел захрапеть.
- Проглотил, ей-богу, право, проглотил! - бормотал он несвязно
впросонье.
- Да кто кого: фу, ты, Боже мой, - скажете ли вы? - допытывался Яков.
- Поднеси из благочестивых рук... - чуть внятно говорил Опенкин,
засыпая.
- Ну, теперь ничего не добьешься!»
В каждом человеке Опенкин видит положительное («святое») начало. Лишь себя он сравнивает с «недостойным Иоакимом». Царь Иоаким известен тем, что не послушал слов Бога, сказанных через пророка Иеремию: «Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их писцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его...» (Иеремия 36; 23-24). Таким образом, называя себя недостойным Иоакимом, Опенкин признает свой грех непослушания Богу (уход от священнического сана).
Нет оснований говорить о том, что Гончаров, создавая своего Опенкина, испытал влияние Достоевского. У Достоевского практически нет второстепенных героев. В его романах даже второстепенные герои несут в своем образе некую идею, и отнюдь не являются простыми бытовыми зарисовками. Мармеладов здесь не исключение. Опенкин же ничего не решает в архитектонике «Обрыва». Он просто «попался под руку» Гончарову (как и Райскому). Религиозно-философские идеи автор «Обрыва» выстраивает через главных героев, в то время как второстепенные персонажи интересны сами по себе как типажи. Так Опенкин - это «местная достопримечательность», провинциальный тип чиновника-пьяницы, который несчастлив в семье, бродит по знакомым и к которому притерпелся весь город: так что умри Опенкин - и как будто чего-то не будет хватать. Художественный принцип, которым руководствуется Гончаров, создавая подобных героев, выражен им в одном из писем к П. А. Валуеву: «...Я принадлежу к числу небольших,но посредственных художников, которые, как пруд в саду, отражают верно только то, что художник видит, знает, переживает, т. е. то, что глядится в этот пруд, будь то деревья, ближайший холм, клочок неба и т. п. и что потом перерабатывается в его фантазии»[1].
Речь Опенкина, переполненная библейскими реминисценциями, показывает, что Гончаров прекрасно помнит не только Евангелие, которое он цитирует постоянно - и в художественных произведениях, и в письмах, - но и Ветхий Завет. В отличие от речи Мармеладова, звучащей искренно, напряженно, патетически, речь Опенкина производит впечатление некоего комизма, источник которого - сочетание высокого церковно-славянского слога, с одной стороны, и подчеркнуто бытовых (и даже порицаемых с точки зрения Священного Писания) ситуаций и реалий (пьянство и связанное с ним поведение). Опыт такого комического сочетания высокого и низкого у Гончарова уже был. Еще более характерны два письма к Н. П. Боткину. Первое письмо, от 15 февраля 1862 года, написано в духе челобитной, торжественного и велеречивого обращения с просьбой купить в Москве табаку у немецкого торговца Тринка. В «битье челом» выражается, в традициях средневековой письменности, возвеличивание адресата, с одной стороны, и самоуничижение с другой. Понятно, что в переписке людей XIX в., состоящих в приятельских отношениях, челобитная - только шуточный стилевой прием. Но нам важно отметить сам факт тонкого владения Гончаровым стилем подьячих XVI в. Вот это письмо:
Премилосердный государь мой, Николай Петрович!
Известился я через Надворного советника, Михайлу Александровича Языкова, что якобы Вы, государь мой, вкупе с братцем и наиотменнейшим Сергеем Михайловичем (Третьяковым - В.М.) нашу столицу посетить умышляете и через то нам великую радость сотворить хотите, того ради я, от великого моего к Вам усердия и веселия, за здравие Ваше просвирку заказал.
А просьбицу к Вам, милостивец мой, имею такую: приобвык я зело табачным зельем заниматься, и хотя ведаю, что тем грешным делом много душевного спасения теряю, однако, по немощи своей, сей тленной утехи одолеть бессилен и еле лишь о том помыслю, ощущаю под ложкой тяготу и сосание великое. А по Москве у Вас поселился сам пущающий нас на грех лукавый в виде немца Тринка: он изготавливает зело изрядныя и соблазнительныя для христианской глотки папирусы... Наказывал я тому Надворному Советнику Языкову оных мне потребное количество искупить и привезти, однако он, по безпутству и пьянству великому, запамятовал и того не исполнил...»[2] Если в письме к Н. П. Боткину Гончаров шутливо обыгрывает язык подъячих XVI в., то в речи Опенкина - это чистый церковно-славянский язык, подчеркивающий и комизм, и драматизм жизненной ситуации. Опенкин сроднился с этим языком в духовной семинарии - и должен был употреблять его совершенно серьезно в своем церковном служении. Не послушавшись Божиих глаголов (как «недостойный Иоаким»), он всю жизнь расплачивается за свою ошибку, профанируя высокий церковный язык в ситуации жизненного несчастья и в то же время держась за этот язык как за нить, связующую его с Богом. Драматизм и комизм здесь срослись в нечто неразложимое.
Прямых оснований выводить генезис образа Опенкина от образа Мармеладова нет, но, впрочем, это не исключено, если учесть, что «Преступление и наказание» появилось в печати на два года ранее «Обрыва». Именно Мармеладов мог натолкнуть Гончарова на мысль о драматизации и углублении чисто бытового типа через передачу внутреннего осознания личностью своей связи с Богом («образа Божьего»). Этому и служит акцентирование в речевом образе обоих героев церковно-славянской лексики и библейских ассоциаций. Перед нами не просто психологическая защита социально потерянной личности, но философское обоснование иной, высшей, иррациональной оценки человеческой души в перспективе последнего Суда. При этом, впрочем, нельзя не обратить внимание на то, что если Мармеладов акцентирует в своей речи Евангельские ассоциации, то Опенкин - Ветхозаветные.
Ф. М. Достоевский и И. А. Гончаров изображают опустившегося человека, который, однако, защищает свою личность, «витийствует», прибегая к церковно-славянскому языку и разделяя суд человеческий о своей личности от суда Божьего. Достоевский изображает в Мармеладове («Преступление и наказание») драму духовного падения. Образ Опенкина («Обрыв») более обытовлен и подан с элементами комизма. Прямых оснований выводить генезис образа Опенкина от Мармеладова нет, но это не исключено, имея в виду тот акцент, который сделал Гончаров в письме к Достоевскому от 11 февраля 1874 года.
В этом же письме далее Гончаров ставит ещё одну важную проблему, о которой уже неоднократно писали исследователи: это проблема литературного типа и понимания «типичности». В своём письме Гончаров замечает: «Теперь перехожу к другой скучной обязанности: это ценсора - и вместе ко второй половине рукописи - к священнику. После нескольких Ваших слов вчера об этом я как будто предчувствовал и отчасти предсказал о затруднении, которое может встретиться. Я Вам говорил, с каким сожалением мы должны были отказаться от статьи Авдеева - по причине священника же.
Ваш же священник-ухарь очерчен так резко и зло, что впадает как будто в шарж, кажется неправдоподобен, хотя, может быть, такие и есть (я никого почти из них не знаю). Вы сами говорите, что «зарождается такой тип»; простите, если я позволю заметить здесь противоречие: если зарождается, то еще это не тип. Вам лучше меня известно, что тип слагается из долгих и многих повторений или наслоений явлений и лиц, где подобия тех и других учащаются в течение времени и, наконец, устанавливаются, застывают и делаются знакомыми наблюдателю. Творчество (я разумею творчество объективного художника, как Вы, например) может являться только тогда, по моему мнению, когда жизнь установится; с новою, нарождающеюся жизнию оно не ладит: для нее нужны другого рода таланты, например Щедрина. Вы священника изображали уже не sine ira: здесь художник уступил место публицисту.
Опять тысячу раз извиняюсь, что сбиваюсь с прямой дороги в сторону.
Вы давно пишете и, конечно, помните, какими недотрогами в ценсурном смысле были духовные и военные лица у нас: такими в значительной степени остаются они еще и теперь, при отсутствии предварительной ценсуры. Я не говорю уже о том, что на Вас возопиет все духовенство «за мараль», по выражению купцов Островского, взводимую на духовенство, и, конечно, спросят: «Где Вы видели такого попа» - и т. д. и т. д. - мало ли к чему привяжутся! - и про себя не простят Вам даже за проклятие табакокурения.
Но это бы неважно, если бы они критически отнеслись к Вам: на всякое чихание не наздравствуешься! Но привяжутся к нашему комитету, пожалуй, и т. д. и т. д., всего предвидеть нельзя, но можно многого ожидать.
Вы вчера на мои опасения довольно благодушно и равнодушно заметили: «Ну, так вон его!» Я этого не смею предлагать Вам, а буду только ожидать - буквально, как Вы прикажете.
Я предупреждаю, что это мое личное мнение - и если Вы не разделяете моих опасений, то прикажите или разрешите мне внести послезавтра очерк Ваш в комитет с попом. Если же Вы найдете мои предвидения несколько основательными, то благоволите дать мне знать по городской почте в двух словах о том: могу ли я внести то, что Вы мне дали, в среду в комитет (чего бы мне очень хотелось) и обещать, что Вы подарите еще не одну «картинку» - или же сказать, что тут и конец (чего бы не хотелось), так как и данное Вами уже составляет нечто целое.
Если Вы завтра, во вторник, вечером бросите письмо в ящик, я получу его в среду утром до комитета (заседание в два часа) - и исполню, что Вы скажете. Если пожелаете доставить для поправок рукопись опять к Вам, я ее или сам привезу, или пришлю с человеком.
Отдаю себя в полное Ваше распоряжение и прошу верить моему искреннему уважению и преданности.
И. Гончаров» (VIII. 456-458).
Несмотря на внутреннее несогласие с Достоевским, изобразившим священника-атеиста, Гончаров, из уважения к литературному авторитету Достоевского, тем не менее, 13 февраля рекомендует очерк «Маленькие картинки» к опубликованию в «Складчине». Однако он не оставляет попыток убедить самого Достоевского внести правку в очерк. 14 февраля он пишет Достоевскому письмо: «Должно быть, я не совсем ясно выразился в письме моем, что вызвал Вас, многоуважаемый Федор Михайлович, на серьезное возражение по поводу типа попа. Я никак не хотел сказать, что я не видал этого типа и потому он не существует или неверно написан у Вас. Я не видал и не знаю единственно потому, что нигде не бываю, никого не вижу и вообще с современными типами русского общества вовсе незнаком.
Я полагал, что его могут принять за шарж потому единственно, что он один зараз носит на себе все рубцы, которые нахлестал нигилизм, с одной стороны - (он и курит непомерно, и чертей призывает, и хвалит граждан-ский брак), он же - с другой стороны - и франт, весь в брелоках, цепочках, опрыскан духами и напоминает французского модного аббата бурбоновских времен.
Вы говорите, что он не шарж и не выдумка, а снят Вами с действительности, как фотография. Может быть, в этом именно и заключается причина, что из него не вышло (на мои, впрочем, глаза) типа. Вы знаете, как большею частию в действительности мало бывает художественной правды и как (это Вам лучше других известно) значение творчества именно тем и выражается, что ему приходится выделять из натуры те или другие черты и признаки, чтобы создавать правдоподобие, то есть добиваться своей художественной истины.
Вы говорите, что тип этот, может быть, и существовал, да мы его не замечали. А если мы, скажу на это, то есть все, не замечали, то он и не тип. Тип, я разумею, с той поры и становится типом, когда он повторился много раз или много раз был замечен, пригляделся и стал всем знаком. В этом смысле можно про него сказать то же самое, что про звук. Звук тогда только становится звуком, когда звучит кому-нибудь, то есть когда есть ухо, которое его слышит, а дотоле оно есть только сотрясение или колебание воздуха.
Оставлю эту метафизику и физику и скажу, что я собственно разумел его, то есть попа, типом от нигилизма, следовательно и недавним, не успевшим наслоиться, так как нигилизм явление тоже весьма нестарое, начинаю-щееся уже и разлагаться.
Под типами я разумею нечто очень коренное - долго и надолго устанавливающееся и образующее иногда ряд поколений. Например, Островский изобразил все типы купцов-самодуров и вообще самодурских старых людей, чиновников, иногда бар, барынь - и также типы молодых кутил. Но и эти молодые типы уже не молоды, они давно наплодились в русской жизни - и Островский взял их, а других, новейших, которые уже народились, не пишет потому именно, мне кажется, что они еще не типы, а молодые месяцы - из которых неизвестно, что будет, во что они преобразятся и в каких чертах застынут на более или менее продолжительное время, чтобы художник мог относиться к ним, как к определенным и ясным, следовательно и доступным творчеству образам.
И я знал попа, если не атеиста, какого Вы знали, то уже вовсе не православного, но он не только не составлял типа - но ни елика подобия не имел,- а был каким-то Хлестаковым, которому из тщеславия хотелось вертеться между умными людьми. И это очень давно, когда еще едва прорезывался нигилизм.
Учитель Ваш, о котором я забыл упомянуть, едва задет, но уже представляет мягкую симпатичную фигуру.
Извините, почтеннейший Федор Михайлович, что я опять заговорил с Вами о типах и попах - но, право, это, (поверьте искренности) - лишь от удовольствия обменяться с Вами несколькими живыми мыслями, как бы мы обменялись ими на словах.
Сегодня я торжественно внес Вашу первую половину в комитет, что принято было с большим сочувствием, и имя Ваше внесено в список участвующих, а рукопись я взял назад, чтобы представить в будущее заседание вместе со второю половиною. Заседание будет в понедельник, 18 февраля в 2 часа.
Так как Вы сочувствуете этому предприятию не одними словами, а и делом, то считаю особым удовольствием уведомить Вас, что книжка уже собрана вся, за исключением двух-трех ожидаемых статей (Островского, Кохановской и еще кого-то) - бумага в начале будущей недели будет готова, и, следовательно, приступлено уже к набору.- Судя по составу и по авторам, книжка будет, кажется, смеем сказать, не одною только спекуляциею, но и действительно замечательною книгою.
Я исполнил, как Вы указали, то есть отобрал листки с девятнадцатого по двадцать шестой, именно с той строчки, которая начинается: «Однажды в июле» и до конца - и оставил их у себя, чтобы вручить Вам при свидании в надежде получить от Вас вторую половину - и обе вместе, если можно, в понедельник доставить в комитет.
Прошу Вас верить моему искреннему почтению и преданности.
И. Гончаров» (VIII. 459-461).[3]
О проблеме типизации Гончаров также подробно рассуждает в своих статьях 1870-х гг.: «Лучше поздно, чем никогда» (1879), «Мильон терзаний» (1872), «Опять «Гамлет» на русской сцене» (1875), «Материалы, заготовляемые для критической статьи об Островском» (1873). Если Достоевский акцентирует характерное, идейно существенное, то Гончаров - установившееся, распространённое, а потому и характерное. В статье «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв»» (1876) Гончаров пишет: «Искусство серьезное и строгое не может изображать хаоса, разложения... Истинное произведение искусства может изображать только устоявшуюся жизнь в каком-нибудь образе, в физиономии, чтобы и самые люди повторились в многочисленных типах под влиянием тех или других начал, порядков, воспитания, чтобы явился какой-нибудь постоянный и определенный образ формы жизни и чтобы люди этой формы явились в множестве видов или экземпляров... Старые люди, как старые порядки, отживают свой срок, новые пути еще не установились... Искусству не над чем остановиться пока» (VIII. 212-213). О том же пишет он в статье «Лучше поздно, чем никогда»: «Рисовать... трудно, и по-моему просто нельзя, с жизни, еще не сложившейся, где формы ее не устоялись, лица не наслоились в типы. Никто не знает, в какие формы деятельности и жизни отольются молодые силы юных поколений, так как сама новая жизнь окончательно не выработала новых окрепших направлений и форм. Можно в общих чертах намекать на идею, на будущий характер новых людей, что я и сделал в Тушине. Но писать самый процесс брожения нельзя: в нем личности видоизменяются почти каждый день - и будут неуловимы для пера» (VIII. 249).
В теории типического Гончаров шёл вслед за Н. И. Надеждиным и В. Г. Белинским. В. А. Недзвецкий в своё время обратил внимание на то, что Гончаров в своём понимании типа тяготел к широчайшим обобщениям, к так называемым «вечным типам»: «Кому какое дело было бы, например, до полоумных Лира и дон Кихота, если б это были портреты чудаков, а не типы, то есть зеркала, отражающие в себе бесчисленные подобия - в старом новом и будущем человеческом обществе?» (VIII. 142). «Общечеловеческие образцы, конечно, остаются всегда, хотя и те превращаются в неузнаваемые от временных перемен типы, так что на смену старым, художникам иногда приходится обновлять, по прошествии долгих периодов, являвшиеся уже когда-то в образах основные черты нравов и вообще людской натуры, облекая их в новую плоть и кровь в духе своего времени» (VIII. 22).[4]
Заканчивая эпизод со «Складчиной», следует упомянуть, что уже во второй половине марта 1874 года Достоевский пишет Гончарову ещё одно «техническое», и, надо сказать, довольно сухое и официальное письмо, в котором проявилась подозрительная мнительность писателя: «Милостивый государь, в газетном объявлении о скором выходе сборника «Складчина», три дня тому назад, при перечислении имен всех авторов, принявших в нем участие, пропущено лишь одно мое имя. Если это сделано только по ошибке, то прошу Вас, в будущих публикациях, поместить и меня в числе авторов, доставивших в «Складчину» свои труды. Покорный слуга Ф. Достоевский».[5] Кстати, тревога Достоевского оказалась совершенно напрасной. Лишь по торопливости и невнимательности он не заметил своё имя в числе других. «Объявления о печатании и скором выходе сборника «Складчина» помещены в «Голосе» от 20 февраля 1874 г. (№ 51) и 15 марта (№ 74). Объявления о выходе из печати и продаже помещены 28 марта 1874 г. в «Голосе» и «С.-Петербургских ведомостях» и 30 марта в «Русском мире». Во всех перечисленных объявлениях имя Достоевского названо среди имён других участников сборника».[6]
Ф. М. Достоевский еще в молодости сумел оценить «замечательный талант» И. А. Гончарова. Он внимательнейшим образом прочитывал всё, что выходило из-под пера автора «Обломова». Гончаров же, если верить его известному признанию, мало интересовался творчеством Достоевского. В «Необыкновенной истории» он пишет: «Я давно перестал читать русские романы и повести: выучив наизусть Пушкина, Лермонтова, Гоголя, конечно, я не мог удовлетвориться вполне даже Тургеневым, Достоевским, потом Писемским, таланты которых были ниже первых трех образцов. Только юмор и объективность Островского, приближавшие его к Гоголю, удовлетворяли меня в значительной степени. Из Достоевского я прочел «Бедных людей», где было десяток живых страниц, и потом, когда он написал какого-то Голяткина да Прохарчина, - я перестал читать его и только прочел превосходное и лучшее его сочинение «Мертвый дом», а затем доселе ничего не читал, ни «Преступлений и наказаний», которые, говорят, очень хороши, и ничего дальше».[7] Напротив, почтительное отношение к Гончарову как художнику сохранялось у Достоевского на протяжении всей жизни. Он всегда подчеркивал масштаб писательского дарования Гончарова. В письме к А. Н. Майкову от 12 февраля 1870 года Достоевский относит Гончарова ко всему, «что есть блестящего из имён» (29. I. 107). В письме к Н. Л. Озмидову от 18 августа 1880 года писатель перечислил авторов, которых стоит обязательно прочесть. Имя Гончарова здесь упомянуто наряду с ярчайшими классиками европейской и русской литературы: «Вальтер-Скотт... имеет высокое воспитательное значение. Диккенса пусть прочтет всего без исключения... Дон Кихот и даже Жиль Блаз... Пушкина... всего - и стихи и прозу. Гоголя тоже. Тургенев, Гончаров.. Лев Толстой должен быть весь прочтен. Шекспир, Шиллер, Гете - все есть и в русских, очень хороших переводах...»[8]
Нужно сказать, что несмотря на всегдашнее напряжённое восприятие Гончарова, Достоевский начиная с 1867-1870 гг. постепенно изменяет характер своих высказываний об авторе «Обломова». Многое из того, что было Достоевским осознанно, остается за кадром. Возможно, роль сыграло дружественное общение с А. Н. Майковым, всегда глубоко почитавшим Гончарова. Но особенно большое значение имело переосмысление значения романа «Обломов» во время написания «Идиота» и «Сна смешного человека». Именно в 1870-е гг. Достоевский оценил не только Гончарова-писателя, но и гончарова-мыслителя. Характерны его новые высказывания. Достоевский однажды заметил в «Дневнике писателя»: «...раз вечером, мне случилось встретиться на улице с одним из любимейших мною наших писателей. Встречаемся мы с ним очень редко, в несколько месяцев раз, и всегда случайно, всё как-нибудь на улице. Это один из виднейших членов тех пяти или шести наших беллетристов, которых принято, всех вместе, называть почему-то «плеядою». <...> Я люблю встречаться с этим милым и любимым моим романистом, и люблю ему доказывать, между прочим, что не верю и не хочу ни за что поверить, что он устарел, как он говорит, и более уже ничего не напишет. Из краткого разговора с ним я всегда уношу какое-нибудь тонкое и дальновидное его слово...»[9] И ещё: «Я на-днях встретил Гончарова, - сообщал Достоевский в 1876 г. Х. Д. Алчевской, - и на мой искренний вопрос: понимает ли он все в текущей действительности, или кое-что уже перестал понимать, он мне прямо ответил, что многое «перестал понимать». Конечно, я про себя знаю, что этот большой ум не только понимает, но и учителей научит, но в том известном смысле, в котором я спрашивал (и что он понял с ¼ слова), он, разумеется, не то что не понимает, а не хочет понимать. «Мне дороги мои идеалы и то, что я так излюбил в жизни, - прибавил он, - я и хочу с этим провести те немного лет, которые мне остались, а штудировать этих (он указал мне на проходившую толпу на Невском проспекте) мне обременительно, потому что на них пойдет мое дорогое время»...»[10]
Гончаров смотрел на Достоевского, кажется, с меньшим пиететом. Поклонник гармонического искусства, наследующий традиции мировой классической литературы, он ощущал искусство Достоевского как замечательное, глубокое, но болезненное. В статье «Лучше поздно, чем никогда» он как бы отделяет автора «Преступления и наказания» от традиционного круга русских реалистов (впрочем, отделял себя и сам Достоевский)[11] и замечает, что Достоевский находит правду жизни «в глубокой, никому, кроме его, недостигаемой (курсив наш - В. и Т. М.) пучине людских зол».[12] Поскольку Гончаров подчеркивает, что Достоевский делает это не только «силою одного холодного анализа» (VIII. 109), но, как и иные представители русского реализма, с «участием сердца» (VIII. 108), то, разумеется, он понимает и высоту положительных идеалов Достоевского, силу его созидательного идеализма. По сути, романист выразил чрезвычайно высокую оценку Достоевского, хотя и подчеркнул его несходство со своими эстетическими установками.
Обозначая место Гончарова в развитии романной формы, В. Г. Одиноков писал: «Создавая особый тип романа, Гончаров органично вписывался в процесс развития реализма XIX в., объединяя два его течения: психологическое и социологическое... Таким образом, русский роман, пройдя через особую фазу, приблизился к симметричной точке на исторической спирали литературного развития, которая соответствовала пушкинскому периоду. Но теперь и жанр русского романа, и реализм как направление были обогащены «экспериментом» целого этапа литературы».[13] Думается, что представление о значении Гончарова в развитии романной формы В. Г. Одиноковым (равно как и О. Г. Постновым) упрощено. Как «Фрегат «Паллада»», так и романы Гончарова, в особенности «Обломов», дали русскому роману не только «социологическую» прививку, но - что гораздо более важно - историософскую, основанную на решении проблемы: «Бог и Его замысел о человечестве». Здесь значение Гончарова трудно переоценить. Первым это почувствовал Достоевский, также мысливший масштабными религиозно-историософскими категориями.
Что касается изображения внутренней жизни человека, то принято считать, что между Гончаровым и Достоевским существует огромное различие. Так, Е. А. Краснощекова в своей книге делает тонкое замечание о причинах внутренней близости Гете и Гончарова. Исследователь, опираясь на выводы М. М. Бахтина, отмечает, что Гете, в отличие от Ф. Достоевского, тяготеет к изображению становления или воспитания человека. Различные состояния его души выстраиваются в некую логическую последовательность. Достоевский же изображает не становление, а испытание человеческой души. При этом различные этапы развития человека проявляются в кризисный момент одновременно и противополагаются друг другу. Спокойному «классическому» Гончарову ближе Гете: «Гончаров, который развертывал свой мир вослед Гете, прежде всего, во времени, недаром остро ощущал разницу между собой как художником и Достоевским, который видел в мире «все рядом и одновременно». Человеческую жизнь Гончаров представлял как смену естественных возрастных этапов, как историю человеческого взросления или невзросления (преждевременного угасания), которая сопровождается изменениями (превращениями) всей внутренней структуры человека и его отношений с миром. Поэтому им и был создан русский роман «школы Вильгельма Мейстера» - «Обыкновенная история»».[14] В тонком замечании исследовательницы заключена, однако, лишь часть истины. Не учитывая религиозный настрой Гончарова, сближающий его с Достоевским, невозможно понять, что автор «Обрыва» изображает не только становление, но и испытание души человека. Собственно, Гончаров изображает испытание как становление личности, а не как резко очерченное драматическое событие (ср.: «Преступление и наказание»). Так испытываются все практически герои Гончарова - от Александра Адуева в «Обыкновенной истории» до Веры и Бабушки Татьяны Марковны в «Обрыве». Такое же испытание претерпевает Илья Обломов. И не все гончаровские герои это испытание выдерживают. Достоевский, никогда не высказывавшийся по поводу «петербургского» романа Гончарова «Обыкновенная история», уже в «Обломове» почувствовал нечто родственное себе. Правда, Гончаров и Достоевский по-разному изображают (но не представляют для себя) истину, испытывающую героя. Для Достоевского это - Евангелие, с чётко обозначенным: «Аз есмь истина и путь». Гончаров изображает не Христа и не евангельскую истину в чистом виде. Его сюжет лишён религиозности как таковой. Евангельский свет разлит в его романах. Гончаров проецирует евангельскую истину на обычную практическую жизнь современного человека, взятого не в чрезвычайных ситуациях. Он ставит вопрос о приложении христианства к обычной жизненной практике современного цивилизованного человека. Испытание его героев мыслится как эволюция их внутренней жизни. В зависимости от того, как они его выдерживают, они, между прочим, получают свои фамилии: АД-уев, РАЙ-ский.
И Достоевский, и Гончаров, таким образом, идут от Евангелия. Оставаясь в лоне русской духовной традиции, они оба изображают не только испытание человеческой души, но и её преображение. Евангельская антропология зиждется на следующей модели человеческой жизни: грех - покаяние - воскресение. Так построен роман «Преступление и наказание», где в эпилоге Раскольников берёт в руки Евангелие, воскресая душой от совершённого греха через осознание своего преступления (греха). Так строится и роман «Обрыв», в котором показан не только грех женского (и вообще общечеловеческого) срыва («обрыва»), в основание которого лежит духовная болезнь современного общества (отступление от веры, нигилизм, антихристианство), но и покаяние, и воскресение.
Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 11.34.00219а1 "И.А.Гончаров и его окружение. Словарь.справочник"
[1] И.А. Гончаров в неизданных письмах к графу П.А. Валуеву. 1877-1882. СПб., 1906. С. 50-51.
[2] Голос минувшего. 1919. №№ 1-4. С. 236.
[3] Ответное письмо Ф. Достоевского от 7 марта 1874 года: «Многоуважаемый Иван Александрович, простите великодушно, что так много утруждаю Вас – всё по поводу того же моего маранья в “Складчину”. До сих пор я все ожидал корректуры, — так как значительное время прошло — и вдруг вчера, в первый раз, узнал от В. П. Мещерского правило, принятое в редакции “Складчины”, о том, что авторы, желающие корректировать сами, приписывают о том на рукописи доставленной статьи. У меня же на рукописи ничего не выставлено, а потому боюсь, что обошлись без меня, прокорректировали, сверстали и, может быть, уже отпечатали, и теперь мне уже не видать авторской корректуры как своих ушей. Вся моя чрезвычайная просьба к Вам, многоуважаемый Иван Александрович, спросить у тех, кто этим заведует, в каком положении мое дело и можно ли мне прислать корректуру? Если же я уже опоздал, то нельзя ли хоть оттиск, даже в гранках, если еще не сверстано, прислать ко мне, чтобы, по крайней мере, я мог видеть сделанные ошибки, а по неразборчивости моей рукописи предвижу, что ошибки быть должны. К Вашему же посредству обращаюсь потому, что на Ваши слова обратят, наверно, более внимания, чем на все письма, которые бы я написал в редакцию “Складчины”. Да и письмо мое могло бы там пролежать некоторое лишнее время. Знаю, что поступаю, обращаясь к Вам, весьма эгоистически, и потому еще раз прошу Вашего извинения.
Поручая себя Вашему благорасположению, прошу верить искреннейшему моему уважению и таковой же преданности. Ваш слуга Ф. Достоевский. Адрес мой: Лиговка — Гусев переулок, дом № 8 (Сливчанского). Квартира № 17»(29. I. 316-317).
[4] Cм. главу о Гончарове В. А. Недзвецкого в кн.: Развитие реализма в русской литературе, в 3-х томах. Т. 2, кн. 1. М., 1973; главу «Тип и идеал» в нашей книге «Реализм И. А. Гончарова» (Владивосток, 1985); книгу О. Г. Постнова «Эстетика И. А. Гончарова» (Новосибирск, 1997).
[5] Там же. С. 317.
[6] Там же. С. 527.
[7] Литературное наследство. Т. 102. М. 2000. С. 217.
[8] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти томах. Л., 1972-1988. Т. 30. Книга 1. С. 212.
[10] Достоевский Ф. М. Письма. Т. III. М. — Л., 1934. С. 206.
[11] Н. И. Пруцков писал: «Автор “Подростка” и считал себя романистом, улавливающим процессы разложения старого и созидания нового. Он противопоставлял себя романистам, которые воспроизводят законченные формы и сложившиеся типы действительности и на этой основе создают произведения, характеризующиеся завершенностью и целостностью. Такие романисты, по убеждению Достоевского, не могут изображать современность, лишенную устойчивости, полноты и гармонии выражения. Они невольно должны будут обратиться к историческому роду творчества и в прошлом искать «приятные и отрадные подробности», «красивые типы», создавать «художественно законченные» картины. Достоевский иронизирует над подобными романистами. К их числу он готов отнести всех своих выдающихся современников, особенно Толстого. В противовес им Достоевский осознает себя романистом “смутного времени”».
[12] Гончаров И. А. Собр. Соч. В 8-ми томах. М., 1952-1955. Т. 8. С. 109.
[13] Одиноков В. Г. Художественная системность русского классического романа. — Новосибирск, 1976. — С. 143–144.
[14] Краснощекова Е. А. Гончаров. Мир творчества. С. 54.












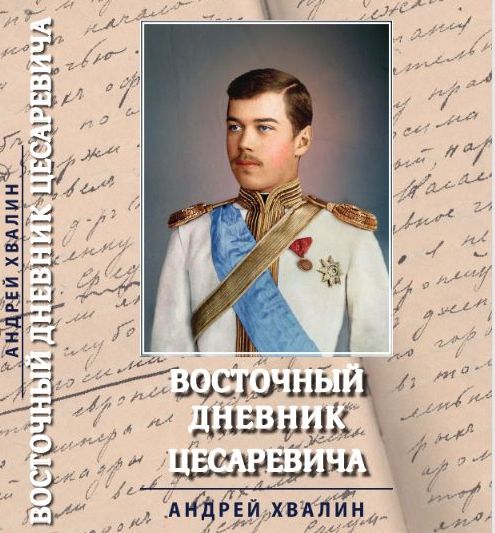













1. Спасибо