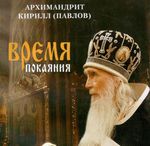Источник: Православие и современность
Когда впервые слышишь словосочетание «церковный древлехранитель», воображение тут же рисует сухонького седенького старичка, корпящего денно и нощно над старинными манускриптами,— этакого Гэндальфа с архитектурной специализацией. Руководитель реставрационного отдела Саратовской епархии Алексей Клыков на волшебника из «Властелина колец» совершенно не похож, но когда слушаешь его истории про восстановление саратовских храмов, мысли о чудесах невольно возникают — пусть это и чудеса рукотворные. Как, например, можно подарить голос немой колокольне? А зазвучала же!
Если не отреставрировать, то хотя бы сохранить

Сейчас епархиальные архитекторы большую часть своего рабочего времени тратят на сбор информации о сельских храмах. Перед ними поставлена задача создать единый реестр с описанием старинных храмов, фиксацией их текущего состояния и фотографиями. Это позволит увидеть полную картину и осмыслить, что представляет собой сегодня архитектурное наследие Русской Православной Церкви. Такой реестр облегчит и поиск благотворителей, готовых поучаствовать в восстановлении церковных объектов.
Продолжатель династии

«Еще во время учебы на первом курсе нас, студентов, отправили на так называемую обмерную практику в здание, находящееся недалеко от железнодорожного вокзала,— вспоминает Алексей Анатольевич.— Позже я узнал, что это было здание храма в честь Рождества Христова. В то время оно было в очень плохом состоянии, его многократно перестраивали под нужды располагавшихся в нем в советское время лечебных учреждений, и ничто в его облике даже не намекало, что здесь когда-то была церковь. Мы пришли с рулетками, выполнили необходимые работы, сдали свои курсовые, и только спустя какое-то время узнали, что наши замеры легли в основу проектной документации по восстановлению храма. Так, сам того не ведая, я впервые принял участие в работах по восстановлению храма, которые, уже будучи выпускником вуза, и завершал».
В годы учебы Алексею довелось участвовать и в других проектах, связанных с реставрацией церковных зданий. К концу обучения стало понятно, что эта тема ему как специалисту весьма интересна. А сам молодой специалист заинтересовал Митрополита Лонгина, который как раз прибыл в Саратовскую епархию и приступил к изучению состояния вверенных его попечению храмов.
А состояние это тогда было, мягко говоря, не очень. Это сегодня мы с гордостью можем показать гостям областного центра великолепно отреставрированные Свято-Троицкий собор и Покровский храм, сводить их в Музей Саратовской митрополии, заодно продемонстрировав, в каких комфортных условиях учатся семинаристы — будущие пастыри. В 2003 году всего этого не было. Во время гонений на Церковь Саратовская земля очень сильно пострадала. Большая часть храмов была просто стерта с лица земли, а те, что остались, требовали огромных вложений и сил. Настоятели пытались ремонтировать их по мере возможностей, зачастую не имея для этого необходимых знаний, и Владыка понял, что к такому сложному делу нужно срочно привлекать профессионалов.
«Организация нашего отдела — это история не только для нашей епархии, а для всей Русской Православной Церкви прорывная,— говорит Алексей Клыков.— На тот момент, в 2006 году, еще не было никаких указов о церковных древлехранителях на уровне Патриархии. Владыка Лонгин в этом вопросе опередил время. Безусловно, это была мера вынужденная, но крайне необходимая. Сначала отдел возглавил иеромонах Пахомий (Брусков), настоятель Свято-Троицкого собора (в настоящее время Епископ Покровский и Николаевский.— Авт.), я был штатным архитектором отдела, а когда его рукоположили в епископа, в 2011 году, мне предложили отдел возглавить. В первую очередь мы занялись теми объектами, в которых уже проводились регулярные богослужения, потому что прихожане начали облагораживать свои храмы, и эти работы нужно было контролировать и корректировать».
Тогда же начались поездки по районам, и молодому архитектору постепенно начал открываться масштаб произведенных безбожной властью разрушений. Вспоминая эти вылазки в саратовскую глубинку, Алексей Анатольевич и сейчас не может сдержать волнения.

Молодой человек тогда так и не нашел объяснения творившемуся семьдесят лет безумию, зато утвердился в мысли, что он может эту тяжелейшую ситуацию изменить, и с жаром принялся за работу.
Про каждый из объектов, в которые были вложены знания и душа, церковный древлехранитель может говорить часами. «Троицкий собор — самый старый храм нашего города. Он уникален! Это единственное в Саратове каменное здание XVII века, которое дошло до нас. Вы знаете, что в его кладке как минимум четыре вида кирпича? Менялись не только размер и марка кирпичей, но и состав кладочного раствора. Сейчас собор выглядит цельным зданием, но на самом деле изначально это был небольшой храм с отдельно стоящей колокольней — позднее к нему были пристроены трапезная часть и второй ярус с галереей, который раньше назывался гульбищем. Было очень приятно работать с московскими архитекторами, которые разрабатывали проект реставрации, мы у них многому научились».
Голос для немой колокольни

«Архитектор Алексей Валентинович Шитов по сохранившимся дореволюционным фотографиям Покровского храма подготовил эскиз колокольни. На основе эскиза был разработан проект. Однако в те годы, в условиях острого дефицита средств, колокольня была построена так, что могла выполнять только декоративную функцию — размещать на ней колокола было нельзя, их вес и вибрация попросту разрушили бы хрупкую конструкцию».
Немой колокольня простояла несколько лет. Когда был создан епархиальный реставрационный отдел, одной из первых задач, поставленных перед специалистами, было все-таки дать ей голос.
«Когда мы начали проводить расчеты,— вспоминает мой собеседник, — то с огорчением поняли, что там можно в лучшем случае разместить лишь малую звонницу. Это никого не устраивало. Пришлось искать сложное техническое решение: внутри этого кирпичного здания появился металлический каркас — остов, который принял на себя вибрационную нагрузку от колоколов. 9 мая 2012 года в Покровском храме состоялось освящение колоколов. Звонница состояла из 13 колоколов весом от 6 кг до 1700 кг, они были отлиты столичной фирмой «ЛИТЕКС». С тех пор храм обрел голос».
Задача со многими неизвестными

Но еще больше, чем финансовые ограничения, епархиального архитектора огорчает незаслуженное забвение тех, кто потрудился на этом поприще ранее.
«О мастерах, которые своими трудами создали архитектурное лицо нашего города, сегодня практически никто не помнит,— с горечью говорит Алексей Клыков.— У нас небывалыми темпами развивается почитание медийных персон, многие из которых ведут себя так, что их образу жизни и не стоило бы подражать, а про людей, которые служили своим землякам незаурядным талантом и оставили нам грандиозное наследие, никто молодому поколению не рассказывает. Тот же, к примеру, Алексей Маркович Салько — человек, проработавший городским архитектором 44 года. О нем столько всего можно рассказать — около тридцати процентов сохранившихся старинных зданий Саратова были созданы им или при его участии! Его имя даже легло в основу нового архитектурного термина: декоративные решения фасадов в стиле эклектики с обилием мелких элементов из фигурного кирпича получили название “салькоко”, производное от названия стиля “рококо”. Вот это меня по-настоящему будоражит и волнует. Если мы хотя бы немного эту ситуацию изменим, буду считать, что не зря тружусь на должности епархиального древлехранителя».
Газета «Православная вера» № 01 (645)
Беседовала Ольга Протасова
Источник: Православие и современность