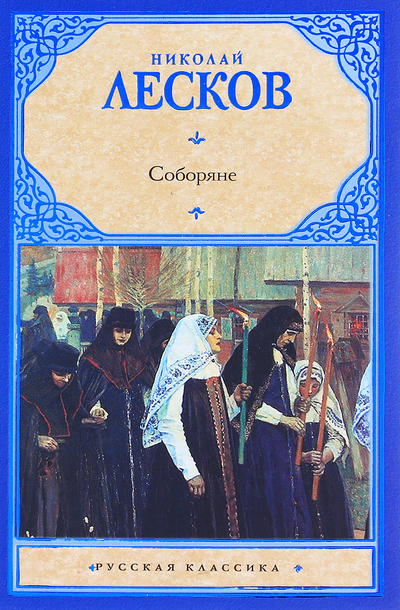
Не случайно Н.С.Лесков открыл этой книгой первое и единственное прижизненное издание своих сочинений. Начиная с «Соборян», главным героем произведений писателя 1870–80-х годов окажется «праведник», человек, верящий в спасительную, преобразующую мир силу деятельного добра. Действие хроники протекает в вымышленном провинциальном городе Старгороде, главными её героями оказываются люди из духовенства – протопоп Савелий Туберозов, священник Захарий Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын.
Лесков вводит в классическую литературу жизнь духовного сословия, игравшего ключевую роль в судьбах отечества, но обойдённого вниманием русских писателей ХIХ века. Имея в виду Н.Г. Помяловского с его «Очерками бурсы» да И.С. Никитина с «Дневником семинариста», Лесков говорит: «Мы не берём своих длиннополых героев от дня рождения их и не будем рассказывать, много или мало секли их в семинарии. Это всё уже со всякой полнотою описано другими людьми, более нас искусными в подобных описаниях, – людьми, евшими хлебы, собираемые с приходов их отцами, и воздвигнувшими пяту свою на крохоборных кормильцев. Мы просто хотим представить людей старгородской поповки, с сокровенными помыслами тех из них, у кого были помыслы, и с наиболее выступающими слабостями, которые имели все они, зане все они были люди и всё человеческое им было не чуждо».
Повествование в хронике ведёт автор-рассказчик, который родственно принимает в себя миросозерцание героев, становится на их точку зрения, пытается их глазами увидеть мир. Он находит средство заглянуть в их души, как смотрят в стеклянный улей, наблюдая, «как пчела строит свой дивный сот, с воском на освещение лица Божия, с мёдом на усладу человека». Сам склад речи духовного сословия здесь принят автором в свой внутренний мир, подобно тому, как это делает Некрасов в поэтическом «многоголосии» своей лирики. Форма сказа позволяет писателю высветить внутренний мир героев старгородской поповки изнутри, глубоко проникнуть в их психологию.
С этой же целью Лесков вводит в повествование дневник протопопа Савелия Туберозова, знакомит читателя с заметками-«нотатками», которые он на протяжении долгой жизни своей заносил в «демикотонову» книгу. Из дневника, записи которого охватывают период с 1830-х до 1860-х годов, мы узнаём о жизненной драме человека, пытавшегося в период кризиса духовных устоев русского общества отстоять и утвердить в людях созидательные ценности жизни, на которые Россия может и должна опереться в своём движении вперёд. Мы с горечью убеждаемся вместе с героями хроники, что эти ценности гаснут невостребованными. В хронике поставлен точный диагноз той болезни, катастрофические последствия которой переживает современная Лескову Россия 1870–80-х годов.
Мир старгородской поповки представлен Лесковым как Россия в миниатюре и как модель нормального, органического её развития. Дьякон Ахилла Десницын – это стихия народная, бурная, неуёмная, ещё не вошедшая в ровные жизненные берега. Захарий Бенефактов – священник, олицетворяющий Православие историческое с его кротостью и смирением, с его отрешённостью от грешной земли. Наконец, протопоп Савелий Туберозов – носитель близкого Лескову воинствующего Православия. Он устремлён к одухотворению земного мира, исполнен христианской воли, энергии и силы. Есть в характере отца Савелия что-то от непокорного, огнепального протопопа Аввакума. Пережив шестой десяток, он сохранил в себе «пыл сердца и всю энергию молодости». В коричневых, больших, смелых и ясных глазах его видны «и блеск радостного восторга, и туманы скорби, и слёзы умиления, и искры гнева – гнева не суетного, не сварливого, а гнева большого человека». Это идеал совершенного христианина, в котором достигнуто единство ума и сердца, духа и плоти, а всё разнообразие человеческих эмоций одухотворено изнутри верующим разумом.
Когда одна из читательниц высказала Лескову своё восхищение образом Ахиллы Десницына, писатель ответил ей с недоумением: «Рад и не рад, что Вам так понравился мой Ахилла. Вы должны были остановиться на ином лице… Ахилла добряк, прекрасного сердца и огромной личной преданности. Он написан хорошо, но он более забавен, чем возвышен. Задача художника в этом состоять не может. Это лицо не поднимает духа или только трогает его. Там есть поп Савелий, лицо цельное, сильное, поэтическое и вместе с тем вдохновенно гражданственное, человек разума, нежной любви, идеала и живой веры. Написав его, я почувствовал, что я имел высокое счастие что-то сделать, что может поднимать человека выше дел своекорыстия и плоти… Это олицетворение “благоволения в человецех”, с которым 1800 лет назад род человеческий в лице Вифлеемских пастухов получил поздравление от ангелов, певших под небом. Всё, что не поднимает духа человеческого, не есть искусство в том священном значении, какое понимал Фидий, изваивая своего олимпийского Зевса, и которое ещё более высоко разумеют художники-христиане. Сместите, пожалуйста, Ахиллу ступенями пятью пониже и полюбите тех, кто смирнее его, но во всём выше».
Ясно, что в Ахилле Десницыне представлена Россия как она есть, а в Савелии Туберозове – чем она должна стать в процессе трудного исторического роста. В его характере собирается в ёмкий синтез всё ценное и жизнеспособное, что проглядывает стихийно и неупорядоченно в других героях хроники, в поэтической атмосфере жизни провинциального Старгорода. Как русский человек, Савелий Туберозов – натура живая, поэтически одарённая, чуткая к красоте окружающего мира. Глазами христианского художника воспринимает он эпизод из жизни бедняка Пизонского, взявшего на воспитание брошенного младенца. О благородном поступке этого человека все позабыли. «Но утром днесь поглядываю свысока на землю сего Пизонского да думаю о делах своих, как вдруг начинаю замечать, что эта свежевзоранная земля, чёрная, даже как бы синеватая земля необыкновенно как красиво нежится под утренним солнцем и ходят по ней бороздами в блестящем пере тощие чёрные птицы и свежим червем подкрепляют голодное тело. Сам же старый Пизонский, весь с лысой головы своей озарённый солнцем, стоял на лестнице у утверждённого на столбах рассадника и, имея в одной руке чашу с семенами, другою погружал зёрна, кладя их щепотью крестообразно, и, глядя на небо, с опущением каждого зерна, взывал по одному слову: "Боже! устрой, и умножь, и взрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего и произволящего, благословляющего и неблагодарного", и едва он сие кончил, как вдруг все ходившие по пашне чёрные глянцевитые птицы вскричали, закудахтали куры и запел, громко захлопав крыльями, горластый петух, а с рогожи сдвинулся тот, принятый чудаком, мальчик, сын дурочки Насти; он детски отрадно засмеялся, руками всплескал и, смеясь, пополз по мягкой земле. Было мне всё это точно видение».
Мир увиден здесь глазами христианина-поэта. Труд сеятеля, в согласии с идеалами православного народа, вдохновляется молитвенным предстоянием труженика перед Богом, бескорыстным служением голодным и сирым, просящим, произволящим, благословляющим и неблагодарным. Весеннее пробуждение – Божий дар человеку. Красота трудового, жизнетворческого начала здесь нераздельна с красотой животворящей природы, с благодатью Творца, стоящего за нею.
Глазами одухотворённого протопопа рисует Лесков в шестой и седьмой главках хроники овеянную воздухом северной саги картину утреннего пробуждения провинциального Старгорода, когда «светозарный Феб быстро выкатил на своей огненной колеснице ещё выше на небо» и «в этом ярком и могучем освещении, весь облитый лучами солнца, в волнах реки показался нагой богатырь с буйною гривой чёрных волос на большой голове. Он плыл против течения воды, сидя на достойном его могучем красном коне, который мощно рассекал широкою грудью волну и сердито храпел тёмно-огненными ноздрями». В мире старгородской жизни скрыты могучие потенциальные силы, подпитывающие дух отца Савелия, дающие ему жизненную опору.
Вдохновенным христианским поэтом-проповедником предстаёт отец Савелий и перед своими прихожанами, когда в художественной импровизации он указывает им на стоящего у двери Пизонского и рисует его образ жизни как образец для «именитых сограждан»: «Хотя я по имени его и не назвал, но сказал о нём как о некоем посреди нас стоящем, который, придя к нам нагий и всеми глупцами осмеянный за своё убожество, не только сам не погиб, но и величайшее из дел человеческих сделал, спасая и воспитывая неоперённых птенцов. Я сказал, сколь сие сладко – согревать беззащитное тело детей и насаждать в души их семена добра. Выговорив это, я сам почувствовал мои ресницы омоченными и увидал, что и многие из слушателей стали отирать глаза свои и искать очами по церкви <…> “Нет его, нет, братия, меж нами! ибо ему не нужно это слабое слово мое, потому что слово любве давно огненным перстом Божиим начертано в смиренном его сердце. Прошу вас, – сказал я с поклоном, – все вы, здесь собравшиеся достопочтенные и именитые сограждане, простите мне, что не стратига превознесенного вспомнил я вам в нашей беседе в образ силы и в подражание, но единого от малых, и если что смутит вас от сего, то отнесите сие к моей малости, зане грешный поп ваш Савелий, назирая сего малого, не раз чувствует, что сам он перед ним не иерей Бога Вышнего, а в ризах сих, покрывающих мое недостоинство, – гроб повапленный. Аминь”». До глубины сердец доходят такие проповеди, и не одна слеза падает на руку протопопа, когда он подаёт прихожанам крест при отпуске из храма.
Но Туберозов-поэт неугоден сильным мира сего. Поступает донос в консисторию о том, что отец Савелий проповедует импровизацией с указанием на лица и конкретные факты из жизни. Праведника вызывают в город на объяснение, тридцать шесть дней держат в строгом посте, на ухе без рыбы, а потом объявляют запрет на проповедь без предварительной цензуры у консисторского чиновника Троадия. «Но этого никогда не будет, – возмущается протопоп, – я буду нем, как рыба. Прости, Вседержитель, мою гордыню, но я не могу с холодностию бесстрастною совершать дело проповеди. Я ощущаю порой нечто на меня сходящее, когда любимый дар мой ищет действия; мною тогда овладевает некое, позволю себе сказать, священное беспокойство; душа трепещет и горит, и слово падает, как угль горящий». Как пушкинский пророк, он чувствует призвание «глаголом жечь сердца людей». Но светское и духовное начальство накладывает запрет, запирает живые уста протопопа: «Молчи!».
Его заступничество за бедное сельское духовенство консисторские чиновники обращают в шутку, заявляя, что «бедному удобнее в Царство Божие внити». Да ещё вспоминают анекдот об академическом студенте, ставшем знаменитым святителем: на вопрос владыки, имеет ли он состояние, студент ответил, что имеет: движимое – дом, который от ветра качается, и недвижимое – матушку да коровку бурую, кои обе ног не двигают. С тревогой замечает протопоп на лицах людей, облачённых властию, выражение какой-то глумливой весёлости в обстоятельствах более печальных и трагических, нежели смешных. В шутку обращают они всё, что требует отношения серьёзного и государственного. В разговоре с губернатором из немцев вступается отец Савелий за несчастных крепостных, работающих на помещика по воскресным дням и даже в двунадесятые праздники, сетует на великую от этой пагубы бедность народную: по целым сёлам нет ни у кого ни ржи, ни овса. А сановник, зло отшучиваясь, кричит: «Да что вы ко мне с овсом пристали!.. Я-де не Николай Угодник, я-де овсом не торгую!» А попытки вразумить его превосходительство кончаются тем, что протопопа лишают благочиния.
Сопоставляя нравственное состояние современного общества с трудами отцов восточной церкви, отец Савелий приходит к печальному заключению, что «христианство на Руси ещё не проповедано»: «Да, сие бесспорно, что мы во Христа крестимся, но ещё во Христа не облекаемся». А власти, светские и духовные, с какой-то злоехидной шутливостью делают всё возможное и невозможное, чтобы эту проповедь прекратить. Наблюдательный ум протопопа, томящийся в вынужденном бездействии, замечает, что против духовных устоев России действуют не только доморощенные нигилисты типа Варнавы Препотенского. Даже самые высокие сановники, наделённые государственной властью, исподволь подрывают эту власть заодно с нигилистами: «Вижу, что нечто дивное на Руси зреет и готовится систематически; народу то потворствуют и мирволят в его дурных склонностях, то внезапно начинают сборы податей и поступают тогда беспощадно, говоря при сем, что сие "по царскому указу". Дивно, что всего сего как бы никто не замечает, к чему это клонит».
На глазах у протопопа вырастает поколение «без идеала, без веры, без почтения к деяниям предков великих». А люди просвещённые, призванные душою болеть за отечество, относятся к этому с каким-то преступным попустительством. Местный предводитель дворянства Туганов раздражённо говорит отцу Савелию: «Да что же ты ко всем лезешь, ко всем пристаёшь: "идеал", "вера"? Нечего, брат, делать, когда этому всему, видно, время прошло». Обстоятельствами русской жизни протопоп ставится в положение «лишнего человека», которого окружающая среда превращает в «умную ненужность». Его заступничество за бедное духовенство консисторские чиновники обращают в шутку. Его проповеди в защиту нравственного достоинства малых и слабых местные чиновники квалифицируют как бунт. Опасность перерождения, отказа от высокого призвания пастыря остро осознаёт протопоп: «Ах, в чём проходит жизнь! Ах, в чём уже прошла она! … Есть что-то, чего нельзя мне не оплакивать, когда вздумаю молодые свои широкие планы и посравню с продолженною мною жизнию моею! … Нужусь я, скорблю и страдаю без деятельности…».
Но, по сравнению с лишним человеком, у героя Лескова есть одно и немалое преимущество. Это характер цельный, лишённый раздвоенности, противоречия между словом и делом. Источник его силы – глубокая вера в Бога, дающая ему возможность выдюжить, выстоять при любых обстоятельствах. Эта вера помогает ему быть снисходительным к человеческим слабостям, прощать людям их непостоянство и легковерие. Эта вера, наконец, спасает отца Савелия от одиночества. Когда засыпает от утомления даже самый верный друг, жена протопопа Наталия Николаевна, которая не в силах понять слабым женским умом его сокровенные мысли, отец Савелий остаётся в духовном общении с Тем, Кто никогда не изменит и даст руку помощи в любых обстоятельствах. Непокорный протопоп решает, вопреки воле начальства, выступить в храме с обличительной речью «в духе крепком, в дыхании бурном… чтобы сами гасильники загорелись». Он верит в духоносную силу слова, вышедшего из уст верующего человека. Готовясь к этой проповеди, Савелий укрепляет свой дух, обращаясь к древним легендам о русских праведниках. Он верит в чудесную силу этих легенд, сравнивает их с живоносными источниками: «Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою сказкой. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого её не будет под старость! …О, как бы я желал умереть в мире с моею старою сказкой».
Есть в окрестностях Старгорода святое место: под горой у лесной опушки бьёт из-под земли источник: «Тут будто некогда, разумеется очень давно, пал изнемогший в бою русский витязь, а его одного отвсюду облегла несметная сила неверных. Погибель была неизбежна; и витязь взмолился Христу, чтобы Спаситель избавил его от позорного плена, и предание гласит, что в то же мгновение из-под чистого неба вниз сверкнула стрела и взвилась опять кверху, и грянул удар, и кони татарские пали на колени и сбросили своих всадников, а когда те поднялись и встали, то витязя уже не было, и на том месте, где он стоял, гремя и сверкая алмазною пеной, бил вверх ключ высокою струёй студеной воды, сердито рвал рёбра оврага и сребристым ручьём разбегался вдали по зелёному лугу». С тех пор «родник почитают чудесным, и поверье гласит, что в воде его кроется чудотворная сила, которую будто бы знают даже звери и птицы. Это всем ведомо, про это все знают, потому что тут всегдашнее таинственное присутствие ратая веры. Здесь вера творит чудеса, и оттого всё здесь так сильно и крепко, от вершины столетнего дуба до гриба, который ютится при его корне».
Накануне проповеди-подвига отец Савелий останавливается у святого источника, и свершается чудо: старая сказка оживает. Набегает на чистое небо грозная туча. «И вдруг, в тёмно-свинцовой массе воды, внезапно сверкнуло и разлилось кровавое пламя. Это удар молнии, но что это за странный удар! Стрелой в два зигзага он упал сверху вниз и, отражённый в воде, в то же мгновение, таким же зигзагом взвился на небо. Точно небо с землёю переслалось огнями; грянул трескучий удар, как от массы брошенных с кровли железных полос, и из родника вверх целым фонтаном взвилось облако брызг».
В этом происшествии отец Савелий видит Божье благословение на свою обличительную проповедь, которую он произносит в храме. Протопоп говорит в ней о безмерном нашем умствовании, порабощающем разум, о неточности наших сведений о душе, о непонимании натуры человека и проистекающем отсюда бесстрастном равнодушии к добру и злу. Он говорит о великой утрате заботы о благе родины. Он призывает народ молиться о том, чтоб сердце государя было не в руках человеческих, но в руках Божиих. Он горько сетует, что народ небрежет этой заботою, что даже в дни торжеств храм Божий остаётся пустым. Он порицает молитвенников, слуг лукавых и ленивых, молитва которых – не молитва, а торговля в храме. Следуя примеру Иисуса Христа, он порицает и осуждает торговлю совестью: «Церкви противна сия наёмничья молитва. Может быть, довлело бы мне взять в руки вервие и выгнать им вон торгующих ныне в храме сем, да не блазнится о лукавстве их верное сердце. Да будет слово мое им вместо вервия. Пусть лучше будет празден храм, я не смущуся сего: я изнесу на главе моей тело и кровь Господа Моего в пустыню и там пред дикими камнями в затрапезной ризе запою: “Боже, суд Твой цареви даждь и правду Твою сыну цареву”, да соблюдется до века Русь, ей же благодеял еси! Не положи ее, Творче и Создателю, в посмеяние народам чужим, ради лукавства слуг ее злосовестливых и недоброслужащих».
Громовой проповедью протопопа под сводами старгородского храма завершилась жизнь праведника и открылось его житие. Отца Савелия насильственно увозят в губернский город, заключают в монастырскую тюрьму. Тяжкие мытарства проходит герой Лескова, прежде чем получает освобождение без права церковной службы. Но и в предсмертной исповеди отец Савелий остаётся не сломленным воином. Покидая это мир, он говорит о своих недругах: «Как христианин, я прощаю им моё перед всеми поругание, но то, что, букву мёртвую блюдя, они здесь живое дело губят, ту скорбь я к престолу Владыки царей положу и сам в том свидетелем стану…».
Рядом с отцом Савелием в хронике выведен яркий образ дьякона Ахиллы Десницына. По утверждению И. В. Столяровой, «Ахилла и Савелий – это русский национальный характер на разных стадиях развития». В отличие от завершённой и цельной личности протопопа, образ дьякона представлен в движении. Ахилла Десницын – это герой, олицетворяющий крещёную православную Русь в её трудном духовном восхождении к свету Христовой истины. В самом начале хроники Ахилла – воплощение младенческой, ещё не укрощенной духоносным разумом стихийной силы и мощи. «Дитя великовозрастное, – говорит о нём с улыбкой отец Савелий. – Не осуждай его… тяжело ему сонную дрёму весть, когда в нём одном тысяча жизней горит». Эмоции в душе этого богатыря преобладают над разумом, он не способен к отвлечённому мышлению и не в состоянии овладеть премудростями богословской науки. Инспектор духовного училища назвал его «дубиной, протяженно сложенной», а отец-ректор, глядя на этого славянского богатыря и удивляясь его силе и бестолковости, резонно возражал: «Недостаточно, думаю, будет тебя и дубиной назвать, поелику в моих глазах ты по малости целый воз дров». Регент архиерейского хора, много помучившийся над обработкой голоса этого богатыря, назвал его «непомерным»: «Бас у тебя хороший, точно пушка стреляет; но непомерен ты до страсти, так что через эту непомерность я даже не знаю, как с тобой по достоинству обходиться».
Богатые возможности русского народа ещё не получили, по Лескову, должного оформления и организации, а потому он всё принимает «горячо и с аффектацией, с пересолом». С самой юности Ахилла оказался человеком безмерно увлекающимся. На всенощной, например, он никогда не мог удержаться, чтобы трижды не пропеть «Свят Господь Бог наш», вырывался и пел это один-одинешенек четырежды. Эта непомерность и сыграла с Ахиллой злую шутку, послужившую поводом к изгнанию его из архиерейского хора и ссылке в Старгород. Во время праздничной службы поручили ему басовое соло на словах «и скорбьми уязвлен». Тщетно пытались все остановить Ахиллу от непредусмотренных повторений. Когда служба была окончена, в «увлекающейся» голове Ахиллы она всё ещё продолжалась, и среди тихих приветствий, произносимых владыке подходившей к его благословению губернской аристократией, словно трубный глас с неба, с клироса раздалось: «Уяз-влен, уй-яз-влен, уй-я-з-в-л-е-н». С тех пор за ним закрепилось ещё одно прозвище – «уязвленный», данное самим архиереем.
Образ Ахиллы Десницына окружён былинными и сказочными мотивами. Томясь в вынужденном бездействии старгородской жизни, он пробует свою непомерную силушку в поединке с заезжим немецким циркачом, подобно разыгравшемуся Ваське Буслаеву: «то сей гнётся, то оный одолевает, и так несколько минут; но наконец Ахилла сего гордого немца сломал и, закрутив ему ноги узлом», взял десять пудов «да вдобавок самого силача и начал со всем этим коробом ходить перед публикой, громко кричавшей ему “браво”».
Когда увозят протопопа под арест в губернский город, сердце Ахиллы в тревоге, а разума в голове – как помочь – нет. И мечтает богатырь о ковре-самолёте или шапке-невидимке. Отправляясь с незначащим письмом к губернскому прокурору, он «пустил коню повода, стиснул его в коленях и не поскакал, а точно полетел, махая по тёмно-синему фону ночного неба своими кудрями, своими необъятными полами и рукавами нанковой рясы и хвостом и разметистою гривой своего коня».
Рядом со сказкой при описании подвигов дьякона возникают мотивы гомеровского эпоса: гнев Ахиллы на нигилиста-учителя Препотенского заставляет вспомнить о гневе Ахиллеса в «Илиаде». По замыслу Лескова, его Ахилла, подобно герою Гомера, представляет младенческий период национального развития. Есть что-то по-детски наивное в том, как этот богатырь, преображаясь в Ахиллу-воина, гоняется, словно мальчишка, за несчастным Варнавкой по улицам городка. С глупым вольномыслием герой Лескова борется так же, по-глупому. И порою этот «сон разума» при непомерной силе и безудержной эмоциональности приобретает далеко не безобидные размеры: «Перебью вас, еретики! – взревел Ахилла и сгрёб в обе руки лежавший у фундамента большой булыжный камень с непременным намерением бросить эту шестипудовую бомбу в своих оскорбителей, но в это самое время, как он, сверкая глазами, готов был вергнуть поднятую глыбу, его сзади кто-то сжал за руку, и знакомый голос повелительно произнёс: “Брось!” Это был голос Туберозова… Ахилла сверкнул от ярости глазами … и бросил в сторону камень с такою силой, что он ушёл на целый вершок в землю».
Склонность к эмоциональным преувеличениям, к бесконтрольно разыгрывающейся фантазии часто приводит к тому, что герой путает воображение с явью. Подобно Хлестакову, он увлекается и верит искренно в правду своей бесконтрольной лжи: «Ну, я зато, братцы мои, смерть люблю пьяненький хвастать. Ей-право! И не то чтоб я это делал изнарочно, а так, верно, по природе. Начну такое на себя сочинять, что после сам не надивлюсь, откуда только у меня эта брехня в то время берётся».
Легковерие героя, основанное на не контролируемой разумом эмоциональной возбудимости, приводит к тому, что он слепо поддаётся чужим влияниям. Вернувшись из Питера, Ахилла обрушивает на отца Савелия целый поток «откровений»: «Бог знает что он рассказывал: это всё выходило пестро, громадно и нескладно, но всего более в его рассказах удивляло отца Савелия то, что Ахилла кстати и некстати немилосердно уснащал свою речь самыми странными словами, каких до поездки в Петербург не только не употреблял, но, вероятно, и не знал!» Добро, если б всё упиралось лишь в новые слова. Гораздо сильнее и страшнее, что Ахилла может с лёгкостью и беззаботностью отречься от предмета вчерашнего поклонения и даже от тысячелетних народных святынь. Почти пророческий смысл в «Соборянах имеет следующий диалог Ахиллы со своим духовным отцом:
«Ну да ведь, отец Савелий, нельзя же всё так строго. Ведь если докажут, так деться некуда». – «Что докажут? Что ты это? Что тебе доказали? Не то ли, что Бога нет?» – «Это-то, батя, доказали…» – «Что ты врёшь, Ахилла! Ты добрый мужик и христианин: перекрестись! Что ты это сказал?» – «Что же делать? Я ведь, голубчик, и сам этому не рад, но против хвакта не попрёшь». – «Что за “хвакт” ещё? Что за факты ты открыл?» – «Да это, отец Савелий… зачем вас смущать? Вы себе… веруйте в своей простоте, как и прежде сего веровали… А там я с литератами, знаешь, сел, полчаса посидел, ну и вижу, что религия, как она есть, так её и нет…».
Только присутствие рядом человека огромной духовной силы, подвигнувшей маловера на покаянную молитву, спасает Ахиллу от далеко идущего соблазна. Под влиянием протопопа совершается святая работа, и немудрый Ахилла становится мудр. Он ещё сомневается в силе проснувшегося в нём разума, жалуясь протопопу, что в рассуждениях сбивчив, и слышит в ответ: «На сердце своё надейся, оно у тебя бьётся верно». И отец Савелий помогает Ахилле ввести разум в сердце, одухотворить и очеловечить сердечный инстинкт.
Смерть отца Савелия, ночи, проведённые в божественном чтении у гроба усопшего учителя, чудесное видение, в котором протопоп предстал перед Десницыным воскресшим, довершают перемены, случившиеся с героем. В нём замолкают тёмные инстинкты и страсти, его вечная лёгкость и размётанность сменяются «тяжеловесностью неотвязчивой мысли и глубокой погружённостью в себя». Прощаясь с отцом Савелием у раскрытой могилы, Ахилла произносит мудрые слова о трагической судьбе своего друга: «В мире бе и мир его не позна… Но воззрят нань его же прободоша». «Это дух Савелиев говорит в нём», – замечает отец Захарий.
До преображения Ахиллы Десницына в Савелия Туберозова, разумеется, ещё далеко. «Непомерность» героя осталась при нём и ещё раз проявилась в строительстве монумента на могиле своего духовного отца. В губернском городе дьякон обошёл всех известных монументщиков-немцев, но остановился на самом худшем, русском жерновщике Попыгине, который размерял пропорции будущего памятника по-русски, шагами. «Вот этак-то лучше, без мачтаба, – говорил Ахилла, – как хотим, так и строим». Русский мастер Ахиллу поддерживал – и вышло у них нечто несообразное: «широчайшая расплюснутая пирамида, с крестом наверху и с большими вызолоченными деревянными херувимами по углам».
А с наступлением весны пришла беда, предчувствиями которой жило сердце усопшего протопопа. Из голодавших зимой деревень сбились толпы оборванных мужиков наниматься в бурлаки. Нанятых счастливчиков подпускали к пище при специальных надсмотрщиках, которые должны были вовремя отгонять проголодавшихся мужиков от котла. Когда «жадники» объедались, они умирали. Рядом с «жадниками» появились «черти», которые бесчинствовали по ночам. Поселившись на кладбище, один из них таскал медные кресты, складни, лампады, а однажды осквернил могилу протопопа.
Поединок Десницына с «чёртом» завершает хронику Лескова. Выдержав испытание, просидев всю ночь в ледяной воде канавы, куда он провалился, держа пойманного «чёрта» на спине, Ахилла доставлен со своим трофеем в канцелярию. Весь город сбежался смотреть на чудо. В народе возникло подозрение, что полиция возьмёт с чёрта взятку и выпустит его обратно. Началось волнение. Предлагали высадить двери правления и насильно взять чёрта из рук законной власти.
В критический момент очнулся Ахилла, сбросил шубы, которыми был накрыт, и крикнул чёрту: «Раздевайся!» Одно мгновение – и чёрта как не бывало, а перед удивлённым дьяконом валялся в ногах несчастный мещанин Данилка. И когда осмелевшие полицейские переодели этого «чёрта» в сухую арестантскую свиту, когда угомонилось на улице волнение горожан, дьякон обратился к властям с требованием освободить бедного мужика: «Ну, отпустите же его теперь, довольно вам его мучить! … Ну, какой там ещё святотатец? Это он с голоду. Ей-Богу отпустите! Пусть он домой идёт».
Здесь дьякон Ахилла вступает в такой же конфликт со светскими и духовными властями, какой пережил его учитель, отец Савелий. «Да что вы это? – строго обратился к Ахилле новоприбывший законоучитель Грацианский, – вы социалист, что ли?» – «Ну, какой там “социалист”! Святые апостолы, говорю вам, проходя полем, класы исторгали и ели. Вы, разумеется, городские иерейские дети, этого не знаете, а мы, дети дьячковские, в училище, бывало, сами съестное часто воровали. Нет, отпустите его, Христа ради, а то я его всё равно вам не дам».
Этих последних слов дьякону не простили, завели дело «О дерзостном буйстве, произведённом в присутствии старгородского полицейского правления соборным дьяконом Ахиллом Десницыным». Только дьякон ничего об этом уже не знал: он лежал в смертельной горячке. Гибелью ученика вслед за учителем завершает Лесков свою хронику. Попытка ввести в жизнь евангельские заповеди любви потерпела неудачу. Но трагический финал не гасит веры и надежды, «ибо не умрёт свет твой, хотя бы ты уже умер. Праведник отходит, а свет его остаётся», – говорит в романе «Братья Карамазовы» старец Зосима.
Юрий Владимирович Лебедев, профессор Костромского государственного университета, доктор филологических наук

























