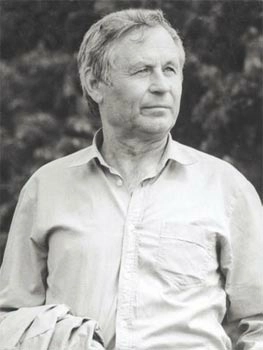
Уехал в деревню с одной целью – читать, отдыхать, закончить борьбу с травой, вымахавшей по пояс и (главное!) не писать ни строчки.
В первый день так всё вроде бы и пошло, пока не поднялся на верхний этаж и на одном из стеллажей, вспомнив, не отыскал книгу, перечитать которую намеревался не первый год – М. Лобанов. «Внутреннее и внешнее: литературные заметки» (Москва, Советский писатель, 1975. – 240 с).
Взял в руки, открыл наугад статью «Человек на войне», начал читать – и уже не оторвался, потому что то, о чём размышлял Михаил Петрович в шестидесятых – начале семидесятых годов прошлого века оказалось поразительно актуальным для нашего нынешнего времени.
И касается это не только вопросов сугубо литературных, но и нравственно-социальных, политических. Впрочем – наиболее талантливые русские критики никогда не принадлежали к исключительно цеховому сообществу. Размышляя о литературных произведениях, о литературном процессе, они всегда поднимались в итоге к разрешениям над вопросами духовными. Не всегда справлялись с заявленной темой, но само дерзание не могло не приносить свои достойные плоды.
Впервые имя критика Михаила Лобанова я узнал ещё совсем молодым человеком из большой статьи «Освобожденье… от чего?» в «Литературной газете» (5 января 1983 г.), вышедшей под авторством П. Николаева. В ней давалась недоброжелательная оценка статье Михаила Петровича «Освобождение», опубликованной в журнале «Волга» № 10, 1982 г. В читальном зале центральной городской библиотеки я взял журнал с разбором Лобановым романа Михаила Алексеева «Драчуны», довольно долго и упорно её читал, по неопытности не всё толком понимая в её содержании, но с тех пор имя критика твёрдо осталось в моей памяти.
Для редакции журнала «Волга» та публикация не прошла даром, соответствующими органами были сделаны организационные выводы по идеологическому укреплению руководства литературного издания. Самого автора разбирали на заседании секретариата Союза писателей в Москве. Весь этот процесс не афишировался, шёл подспудно и для заинтересованных людей итоги его доходили через слухи. Впрочем, не стану на нём останавливаться – история описана самим Михаилом Петровичем в его воспоминаниях «На передовой» в книге «В сражении и любви».
Прошло время, началась перестройка, переродившаяся в вакханалию и приведшая к гибели СССР В то время Лобанов много выступал в патриотической печати с яркими, разоблачительными статьями, которые я неизменно читал, полностью разделяя взгляды автора и по историческим, и по политическим, и по национальным вопросам. Единственное, чего я никак не ожидал, что хоть когда-то Лобанов прочитает и мои тексты, тем более станет моим «крестным отцом» при вступлении в Союз писателей России.
О том, как это произошло, мне доводилось упоминать раньше в одном из своих очерков, но тут, думаю, окажется к месту вспомнить случившееся более тридцати лет назад. Повторить, потому что сам эпизод многое говорит о Лобанове, как о принципиальном и неравнодушном критике и человеке.
В самые смутные для страны дни, с 1 по 4 февраля 1994 года (только что по приказу Б.Н. Ельцина был расстрелян из танков законно избранный российский парламент) в Литературном институте им. А.М. Горького Союз писателей России организовал проведение всероссийского совещания молодых писателей.
Я оказался в семинаре, который вели В.Г. Распутин, М.П. Лобанов, С.И. Шуртаков, С.А. Иванов и ещё ряд прозаиков. Мои произведения разбирали первыми и, видимо, поэтому по ним возникла довольно бурная полемика. После прочтения мною одного из рассказов из цикла «Колька» (по просьбе Иванова, ознакомившегося с повестью), один из неназванных мною писателей возмутился затронутой в произведении темой («Мы сидим в окопах, наши сапоги в пыли, а вы садитесь между нами и играете на дудочке»). Сергей Иванов попытался за меня заступиться, но как-то робко. Нападавший от этого ещё больше осмелел и упрекнул мой рассказ в отсутствии художественности.
Тогда возмутился до этого молчавший и сосредоточенно перебиравший листы с текстом моей повести «Сезон» М.П. Лобанов. Он был оппонентом по этому произведению о жизни и работе уральских старателей, готовился говорить о нём. Михаил Петрович, в отличие от предыдущего писателя, который моих текстов не читал, в подтверждение своей позиции начал зачитывать куски текста, отмеченные им карандашом на полях рукописи, комментировать их, и довольно быстро вопрос о профессионализме автора был полностью снят в мою пользу.
После обсуждения Лобанов порекомендовал представителю редакции газеты «Литературная Россия» взять «Сезон» для публикации («Что вы, это слишком большое произведение для нас!»), пообещал переговорить в редакции журнала «Молодая гвардия» о том же («Я у них член редколлегии»), но тогда повесть так и не вышла в свет. Её судьба состоялась намного позже, как и повести «Колька», да и многих других моих произведений, но это уже совсем другая тема.
Однако была мне в Москве и, может быть, самая главная награда.
Закрывая работу нашего семинара, подводя общие итоги четырёх дней обсуждения, Валентин Григорьевич Распутин сказал о том самом рассказе «Ветер», который вызвал столь оживлённую дискуссию, самые добрые слова, что было для меня полной неожиданностью, и которые я запомнил навсегда как самую высокую похвалу за все годы моего литературного труда: «Есть рассказы, которые гладко написаны. Их легко читать. Но так же быстро они забываются… А вот рассказ Валерия, я знаю, останется со мной на всю жизнь… Даже завидую – почему такой сюжет не пришёл мне в голову…» (Цитирую, понятно, по памяти, но за точность смысла ручаюсь. Да у меня где-то в записной книжке с семинара сохранилась запись этого высказывания Валентина Григорьевича.)
Но возвращусь к книге в зелёном коленкоровом переплёте, которая была создана задолго до тех событий, что описал я выше. Приведёнными воспоминаниями я лишь хотел подчеркнуть, что её автор не случайный лично для меня человек, меня связывает с его образом и творчеством нечто особенное, не проходящее, памятное, теперь уже понятно, до скончания срока.
В статье «Человек на войне» Лобанов пишет словно из нашего времени:
«На Западе продолжают выходить мемуары, документы, фильмы и т.д. В этой западной продукции о войне делаются попытки исказить историю, умалить роль нашего народа и его доблестной армии в разгроме фашизма. Надо сказать, что делается это искусно (начиная от «полуправды» воспоминаний какого-нибудь побитого немецкого генерала и кончая расчётами на впечатляемость зрелища, вроде нашумевшего на Западе американского фильма «Самый длинный день» – о высадке англо-американских войск в Нормандии 6 июня 1944 года) (с. 128-129).
Если бы знал Михаил Петрович, до какого цинизма это дошло в двадцатые годы двадцать первого века! Но предупреждение произнесено, хотя, как чаще всего и бывает с провидцами, не в полной мере оказалось услышанным.
Послушать нынешних политологов и комментаторов на всевозможных «говорильных» передачах, заполнивших телевизионные экраны и сетевые новостные ленты, так создаётся впечатление, что ложь и полуправду о великой войне европейские и американские политики и журналисты начали продвигать в эфир только сейчас, после начала специальной военной операции.
Да нет, господа, так было изначально, ибо основы духовного и нравственного отношения к произошедшему если не противоположные, то уж разные по самым главным параметрам – это точно. Хотя в то время, когда Лобанов писал свою статью, жители европейских государств, в отличие от теперешних политиков, помнили о недавно пережитом, опасались его повторения, потому довольно сильно было в Европе антивоенное движение.
«Минувшая война, – отмечает критик, – оставила в сознании, психологии Европы и мира глубокие последствия, которые для поверхностного взгляда могут казаться уже изжившими себя в сложности и пестроте современных проблем, но которые в действительности подспудно влияют на историческое бытие народов, на жизнь новых поколений. Было время (перед войной, послевоенные годы), когда остро сознавалась народами общность своей судьбы перед опасностью немецкого фашизма, осознавался во всей реальности, порою жестокой, потенциал национального сопротивления» (с. 130).
Такое впечатление, что теперь этот потенциал если не пропал совсем, то до предела истощился. Страх возрождения фашизма в самой откровенной идеологической и милитаристской формах не пугает европейского обывателя, он ему сочувствует, аплодирует, голосует на выборах. На этом фоне дети и внуки фашистов середины двадцатого века в полной мере почувствовали – наступает их время реванша в начале века двадцать первого.
Только в нашей памяти прошлое – незаживающая рана.
Чтобы наглядно показать, что пережил русский народ за годы лихолетья, какие духовные качества помогли ему выстоять, Михаил Петрович и взялся за осмысление мемуарно-художественной литературы, посвящённой событиям Великой Отечественной войны.
Книга «Записки снайпера» Василия Зайцева создана двумя авторами – литературная запись осуществлена писателем Иваном Падериным. В её содержании Лобанов делает акцент на эпизоде противостояния в Сталинграде Зайцева с немецким «суперснайпером» Конингсом, прибывшим специально, чтобы покончить с «главным зайцем».
«Поединок этот, закончившийся гибелью «гостя», читается и как захватывающая «охотничья» история, и как разгадывание двух характеров, в узкопрофессиональном смысле имеющих и что-то сходное (опытность, осторожность и прочее), но тем более не сходных в природе своего мастерства. Оказалось, что бездушно-мстительный, машинный прицел куда более уязвим в качестве мишени, нежели интуиция нравственного порядка» (с. 139).
Как тут не вспомнить недавно разошедшийся по интернету эпизод рукопашного боя российского бойца, земляка Зайцева, с украинским националистом (родом из-под Одессы и говорящим на русском языке).
Приводит Лобанов из этой книги высказывание советского прославленного маршала В.И. Чуйкова: «Совесть – строгий и справедливый судья». И критик разъясняет, почему для нашего солдата это не абстрактное понятие.
«В предвоенный период сознание таких людей, как Зайцев, формировалось под влиянием активных идей советской власти, интернациональной солидарности… Это было призвано воспитывать в советском человеке патриотизм, который не приводил к забвению прошлого родины. Не случайно перед самым началом войны получили широкое распространение фильмы о наших великих предках – об Александре Невском, Дмитрии Донском, Александре Суворове.
Может быть, в этом и феномен характера нашего солдата – в неразложимой сложности мировоззрения и совестливости. Глубочайший смысл в неразмываемой внешними обстоятельствами сущности этого характера, которая заставляет вспомнить, конечно же, «суворовское» – как психологический тип сознания, не замкнутого военной механической логистикой, а одухотворённого нравственно. Любопытно вспомнить, как русский резидент в Константинополе писал Суворову: «Один слух о бытие вашем на границах сделал и облегчил мне в делах и великое у Порты впечатление…» И этот же полководец, одно имя которого наводит страх на противную сторону, говорил: «Если вы хотите истинной славы, следуйте по стопам добродетели». Связь, казалось бы, загадочная, но только для механического интеллекта, не способного постигнуть, что односторонность истощает себя в самом корне» (с. 139-140), – подводит черту критик.
И он же считает необходимым более конкретизировать свою мысль.
«Русский человек добр до крайности, но в ненависти к врагу он не умолим» (с. 139). «Народный характер, духовно-эстетическая содержательность его является и одной из основ культуры, питающей реальные ценности» (с. 141).
Подобные размышления не оставляют Михаила Петровича и в анализе произведений русской литературы, отнесённых к направлению, названному в советское время «деревенской прозой». В статье «Уроки «деревенской прозы»», критик продолжает развивать мысль особенности русского характера. Он ищет ту основу, на которой этот характер возрос и укрепился. Ведь «выветренный слой не может породить крепкого растения; так только на почве народной жизни могут возникнуть сильные характеры». «Из народного морального принципа, как из почки, может родиться целое древо культуры». «Народная мораль и исходит из самой, казалось бы, повседневности, несокрушимости её. Не из головной солидарности, а из общности переживания, затрагивающего самое основополагающее в жизни» (с. 155).
И подтверждает это Михаил Петрович примером-воспоминанием из жизни своей семьи.
Честно признаюсь – меня самого он тронул до такой степени, что даже что-то захолодело внутри. Как же мать перенесла весть о гибели близкого человека, каких сил ей это стоило. И ведь, сколько таких матерей, жён, сестёр было в те годы на просторах России. Их боль на мистическом уровне впиталась через них следующими поколениями, а они передали следующим. Отсюда эта незатухающая общая боль потерь в Великой Отечественной войне живёт в общей памяти русского народа, и всех других народов, связанных с Россией общей историей и общими жертвенными испытаниями.
«Моя мать, вспоминая своего младшего брата, сгоревшего в танке под Веной, за неделю до конца войны (ему было всего 20 лет), сказала: «Я целый год не могла затапливать печку, зажгу спичку и о Косте думаю, как он, бедный, в танке горел». И тихо заплакала. Я внутренне вздрогнул, – чтобы так, почти физически, чувствовать муки брата, и никогда и никому об этом не говорила, первый раз вырвалось за четверть века» (с. 155).
После такого воспоминания, после личного переживания, Лобанов и приходит к выводу, что «Духовное величие народа складывается из индивидуальных сил, из моральной значимости личностей, а не из механической суммы их» (с. 157).
Но вернёмся к тому, с чего начал я заметки о книге «Внутреннее и внешнее» – актуальности поднятых тогда автором вопросов для событий нашего времени.
В первую очередь это касается противостояния России и Запада.
В статье «Вечно живые типы» Михаил Петрович, рассуждая о том, что ещё в девятнадцатом веке русские писатели, жившие в Европе и путешествовавшие по её странам и городам, были разочарованы той действительностью (а не выдуманными фантазиями, что жили в умах либерального слоя отечественной интеллигенции), с которой столкнулись как в повседневной жизни, общаясь с тамошними обывателями, так и в разговорах с представителями высших слоёв западного общества. Та «политическая культура», которую они продемонстрировали, не могла не шокировать. Приводятся в качестве примера воспоминания Герцена, Щедрина, Достоевского, Гоголя…
О последнем больше всего и идёт речь в статье.
Заявив с первых строк, что «Русская литература целостна по своей сути, по своему воззрению на человека как на характер социальный и с философской точки зрения как на своеобразный микрокосм, на бесконечно сложный внутренний мир. Поразительно разнообразие этого характера» (с. 9), разбирая типы и характеры в таких произведениях, как «Мёртвые души», «Записки сумасшедшего», Михаил Петрович вдруг актуализирует тип Чичикова для показа на его примере типажа западного буржуазного общества.
Приведу ещё одну довольно большую цитату, но она, право, стоит того.
«Ныне международный Чичиков вояжирует с континента на континент… Ещё тот Чичиков, Павел Иванович, был как бы уже не в одном лице, а одновременно в нескольких… (…) С тех пор Чичиков значительно усовершенствовался как в степенности и артистичности своих разнообразных личин, так и в умножении точек приложения своего делячества. Ведь Павел Иванович заботится о своих потомках и в любом деле ставит прежде всего то, что объединяет людей без «племени и роду» – размах космополитической деятельности. И везде в конечном счёте всё та же цель – прикупить «мёртвые души», причём вовсе не обнародуя, что они мёртвые, а, напротив, выдавая их за живые, в некотором роде даже духовно богатые, и заклиная при этом, как Чичиков: «Нет, говорит, они не мёртвые, это моё, говорит, дело знать, мёртвые они или нет, они не мёртвые, не мёртвые, кричит, не мёртвые». Подобен знакомой нам шкатулке и внутренний мир духовного буржуа… Здесь все тайны бытия и разрешение всех мировых вопросов. Если же кто не постиг этой загадки и предполагает наличие других – то таковой подозревается в здравом смысле» (с. 18-19).
Какой же это точный портрет нынешнего западного общества, правда, по сравнению с двадцатым веком, намного усугубившийся в чичиковом мёртводушном развитии.
Наверно тогда, в шестидесятых годах ушедшего века, в точности невозможно было представить, до какого духовного и нравственного извращения могут довести западные чичиковы общественное мнение в своих странах (хотя теперь своими они считают не страны, а весь мир, весь земной шар), до какой мёртвости души западного обывателя, когда всё живое станет отвергаться, а всё мерзкое и гибельное внедряться и превозноситься, как действительно необходимое и ценное для духовной жизни, но путь этого «развития» М.П. Лобановым определён и показан провидчески точно.
«Великая русская литература с болезненной чуткостью встретила появление нового в русской жизни типа – буржуа, вопрошая: что он несёт миру? Гоголь с гениальной прозорливостью схватил то потаённое в буржуа, что связано с его расчётами на умерщвление духовной жизни народа и что имеет мировое значение» (с. 19-20).
Гоголь «схватил», а Лобанов расшифровал для современного читателя, для его понимания на десятилетия вперёд.
Опираясь на образы, созданные Ф.М. Достоевским в романе «Преступление и наказание», критик удивительно точно ставит диагноз Лужину, подло поступившему с Соней Мармеладовой, подкладывая незаметно той деньги в карман, а затем обвиняя девушку в их воровстве.
При этом адвокат любит разглагольствовать о высоких материях, научном прогрессе, литературе, истории, о желании отрезать прошлое России от её будущего.
И это всё так нам знакомо, с такой мукой пережито совсем недавно. Но ведь и после нас разными поколениями русских людей будет услышано всё это.
«Ему мало того, скажем, что «лес рубят – щепки летят», – вступает в спор с героем «Преступления и наказания» Лобанов, – он сделает из этого целую систему софизмов, казуистики, демагогии, угроз, и останутся только щепки, как нужное истории, а леса словно и не было. И уже можно, конечно, сообразить, какого рода те «полезные мысли», о которых распространяется Лужин, не знающий иной пользы, чем та, для достижения которой все средства хороши» (с. 21-22).
Как бы ещё много хотелось поговорить о статьях М.П. Лобанова, собранных в книгу «Внутреннее и внешнее». Например, потрясающе интересная статья «Индивидуальность образа», требующая отдельного большого разговора. В ней на примерах создания образов Пушкиным, Гоголем, Достоевским, Л. Толстым раскрывается «внутренняя кухня» литературного процесса гением.
Размышляя, рассказывая о русской литературе, о замечательных типажах, созданных писателями, Лобанов тем самым соединяет воедино русскую историю, которую в определённый период советского времени всё-таки пытались разорвать на отдельные противопоставляемые периоды: правильные и неправильные, прогрессивные и ретроградские, пассивные и активные, реакционные и революционные.
Для Лобанова вся русская история – это история народа с героями и праведниками, негодяями и жертвенно ищущими справедливости. Не быть бы России без тех типов, что созданы её писателями, взявшими основу для своих героев из самой глубины народной жизни.
Закончить эти заметки хочу таким предупреждением М.П. Лобанова: «Понижение культуры может быть катастрофически стремительным. И это не будет бросаться в глаза «просвещённой» публике. Приспособляемость к духовному стандарту (сколь бы он гибельным не был для личности – В.С.) сильнее всяких критериев и историко-культурных образцов. Нет большей трагедии, чем осознание этого культурного падения – при понимании трагедии и бессилии что-либо изменить. И ужас в том, что новые эталоны становятся уже метафизической чертой. Попробуйте убедить делателей «массовой культуры», что настоящая-то высота культуры – это классики. Для них это смерть, кончина их привилегий и славы. И здесь они встанут стеной против толстых, достоевских и прочих «реакционеров»… Конечно, классика не может быть поощрением для эпигонства, но тоска по её идеалу может быть реальнее для творчества, чем всё то, что вызывает к действию «массовая культура»» (с. 25-26).
«С психологией духовного буржуа связывается готовность продать за чечевичную похлёбку такие первородные ценности, как любовь к Родине, исторические заветы народа, народную основу культуры… (…) Дух буржуа убивает всё творческое. Для него все средства хороши и всё аморальное – морально, была бы достигнута цель. Будь то чичиковская погоня за «мёртвыми душами», будь то смердяковское «всё позволено».
Как же это всё актуально для нынешней борьбы России за духовное спасение мира!
Валерий Викторович Сдобняков, секретарь Союза писателей России, главный редактор журнала «Вертикаль. ХХI век»
19-20 июля 2025 г., д. Кунавино













.jpg)




.jpeg)












