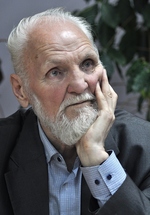В третий день праздника Святой Пасхи Православная Церковь предлагает нам евангельское чтение о явлении Спасителя Луке и Клеопе после Воскресения. Все события, описываемые в Евангелии, имеют глубочайший смысл. Истина вечна, и Евангелие дано нам на все времена. То, что совершалось тогда, непосредственно относится ко всей нашей жизни, а не только к тому давнему времени. Святитель Николай Сербский точно говорит, что все догматы Православной веры имеют прямое отношение к нашей личной жизни.
Мы видим это торжество веры, слышим его в Евангелии, и начинается оно так: Петр же востав тече ко гробу, и приник виде ризы едины лежаща, и отъиде, в себе дивяся бывшему (Лк. 24:12). И дальше говорится о Луке и Клеопе, которые шли в Эммаус и потом узнали Христа в преломлении хлеба, но Он стал невидим. Тогда они возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону (см.: Лк. 24:13–34).
Эти моменты имеют особый смысл. Господь учил своих учеников, объяснял им Писания, но, как сказано в сегодняшнем Евангелии, они не узнали Христа, потому что глаза их были удержаны. И уже потом Господь открыл им, как тот же Лука позже скажет: …тогда отверзе им ум разумети Писания (Лк. 24:45). То есть люди могут смотреть ‒ и не видеть, читать ‒ и ничего не понимать. Это как раз свидетельствует о том, что все зависит от Бога, Господь открывает Свою премудрость. Как, например, Господь открыл некоторые тайны преподобному Нилу Мироточивому, Афонскому монаху.
Смысл прост: Бог есть любовь. Любовь стремится утешить скорбящих. В Евангелии это подробно не описано, но первой, кто узнал о Воскресении Спасителя, была Матерь Божия. Прежде всего Он утешил и обрадовал Свою Матерь. Последним желанием Спасителя было желание утешить Ее перед Своей Крестной смертью. Она видела на Кресте умирающего единственного Сына, и, чтобы не оставить ее одинокой в этой скорби, Господь сказал Матери Божией, взирая на своего любимого ученика: … Жено, се сын Твой, потом глагола ученику: се Мати твоя (Ин. 19:26–27). И после Воскресения Своего спешил Ей возвестить эту радость.
А дальше – жены-мироносицы, которые тоже страдали, они были при Кресте, присутствовали при последних словах Спасителя. Обычно изображается Мария Магдалина, Иоанн Богослов вместе с Матерью Божией. И они были утешены первыми после Воскресения. Господь утешал и других учеников. Лука и Клеопа со скорбью шли в Эммаус, потому что им казалось, что все кончено, учитель их был распят, умер на Кресте. Правда, они уже слышали, что произошло что-то такое необычное: и жены-мироносицы, и другие ученики говорили о том, что Иисус Христос воскрес (см.: Лк. 24:22–25). Но они все еще продолжали ожидать земного царства и земного благополучия. Мы же надеяхомся, яко сей есть хотя избавити Израиля (Лк. 24:21). Господь же сказал: …Царство Мое несть от мира сего, аще от мира сего было бы царство Мое, слуги мои подвизалися быша, да не предан бых был Иудеом, ныне же Царство Мое несть отсюду (Ин. 18:36).
Апостолы все еще продолжали находиться в неведении и в непонимании того, что Царство истинное – не от мира сего. И все, что есть в царстве земном для благоденствия, тоже не от мира сего. Это справедливо не только для царства, а для города или селения. Это знал православный народ, который принял истинную веру, он так и говорил: не стоит село без праведника. Если там есть человек от мира горнего, а не от мира сего, тогда и село будет стоять, пока он там будет. Содом и Гоморра были бы помилованы, если бы там нашлось хотя бы 10 праведников.
Вот ключ к пониманию земного благоденствия. И Господь ученикам это разъяснял через обетования спасения, свободы. Но они в то время еще не могли воспринять это как спасение и свободу духовную. Как говорит святитель Николай (Велимирович), свобода золотая – это внутренняя свобода, которая и в темнице, и на воле всегда остается свободой. И Господь, проповедуя Евангелие, говорит тем, к кому обращено Его слово: …и уразумеете истину, и истина свободит вы. На что Ему отвечали: мы дети Авраама и никогда никому рабами не были. Но Господь сказал: …аминь, аминь глаголю вам, яко всяк творяй грех раб есть греха (см.: Ин. 8:32–34).
Творящий грех есть раб греха. И он уже не свободен. Не свободен пьяница, блудник, наркоман, сребролюбец. Как кто-то сказал уже в наше время: человек, который приобрел много денег, думает, что он ими распоряжается, но на самом деле они распоряжаются им. Это факт. Человек, воспринимающий жизнь не духовно, а материально, находится в рабстве, а не на свободе. Ведь и Спасителя не могли принять, несмотря на все чудеса, которые Он творил, и на все Его премудрые наставления. А не могли принять потому, что боялись потерять славу человеческую. Они были несвободны, думали – кто что скажет, кто что подумает. Неслучайно Никодим приходил ночью, Иосиф Аримафейский тоже сначала был тайным учеником. Они были не свободны. Если бы они были свободны, то приходили бы когда хотели.
Всё просто. Именно это и разъяснял Господь Луке и Клеопе. С другой стороны, Он говорил о том, что все совершилось так, как и должно было совершиться, потому что Он должен был пройти путем страданий. Предадят бо Его языком, и поругаются Ему, и укорят Его, и оплюют Его, и бивше убиют Его, и в третий день воскреснет (Лк. 18:32–33). У старца Иоанна (Крестьянкина) есть замечательное «Слово о страдании», где он говорит: если ты страдаешь телесно или душевно, обрати внимание, что в разной степени все страдают. Страданий нам не избежать. Но нужно учиться страдать достойно и одухотворенно. Без страдания нет ни подлинного счастья, ни истинной любви. Даже Бог – полнота совершенства, сама любовь – прошел путем страданий. И о свободе отец Иоанн очень хорошо говорит: чтобы научиться свободе, нужно преодолеть страдания.
Человек, который взирает на страдания как на ступень духовной лествицы, как на неизбежный шаг для того, чтобы чего-то в духовной жизни достигнуть, находится на истинном пути. Так и в жизни – без труда, без каких-то переживаний, страданий, усилий не совершаются даже обычные дела, не говоря уже о великих. И наша повседневная жизнь требует труда, отказа от своего. Наши «страдания» примерно такие: пораньше утром встать или потерпеть усталость, не упасть сразу, не помолившись, а преодолеть это состояние. В спорте у бегунов на дальние дистанции есть понятие «второе дыхание». Есть какие-то скрытые силы, о которых мы не знаем. Высшая сила, о которой человек, к несчастью, часто забывает, – это духовная сила.
Как говорил один верующий врач, секрет выздоровления заключается в спокойствии духа. Да, искусство врача, лекарства, иммунитет – все это важно. Но самое главное зависит от духа. Часто бывало, что люди, которых с точки зрения медицины считали безнадежными, оставались сильными духом и преодолевали немощь тела, шли на поправку и полностью выздоравливали. Об этом говорит святитель Николай Сербский: тело наиболее служит душе тогда, когда душа о нем не помышляет. На войне это буквально так и происходит. Некогда думать о теле, нужно стремиться к цели.
Венец без победы, победа без войны, война без врагов – не бывают. Против чего воюет человек? Против своей злой воли, против воли диавольской, которая пытается его с чего-то хорошего сбить. Мы знаем такие примеры. Воля апостола Петра была направлена на готовность умереть вместе со Христом. Аще ми есть и умрети с Тобою, не отвергуся Тебе (Мф. 26:35). Но Петр не рассчитал свои силы и отрекся – по слову Иисуса: …прежде даже алектор не возгласит, трикраты отвержешися Мене (Мф. 26:34). А еще раньше, когда Петр исповедал учителя Сыном Божиим, Господь сказал ему: …не плоть и кровь яви тебе, но Отец Мой, иже на небесех. Ты не сам до этого додумался, тебе Господь отверз ум. А вскоре Христос говорит тому же Петру, когда он стал перечить Спасителю: …отойди от Меня, сатана, яко не мыслиши яже суть Божия, но человеческая (Мф. 13–24).
Это как раз и происходит в нашей жизни. Мы не больше апостола Петра. Когда Господь нас посещает, что-то открывает нам, то мы прозреваем, но потом забываем, что это Богом данное, и думаем, что мы такие умные. Тут же приступает диавол, и человек падает. Человек спотыкается и падает даже потому, что он сам немощен. Вот это как раз и было причиной непонимания учеников Христа, идущих в Эммаус. И когда они пришли в селение и попросили Спасителя остаться с ними, потому что уже настал вечер, Он остался и, когда возлежал на трапезе, благословил хлеб, преломил и дал им есть. То есть Он их причастил, так святые отцы объясняют, а потом стал невидим, потому что Он стал Причастием, которое в них вошло. И именно в тот момент у них открылись очи – телесные и душевные. Это уже было Причастие после Воскресения. Первое же Причастие было на Тайной Вечере.
То, что Христос явился ученикам не в Иерусалиме, а по дороге туда, тоже имеет особый смысл. Когда самарянка спрашивала у Господа, на какой горе поклоняться Богу, Он отвечал: грядет час, когда ни в горе сей, ни во Иерусалиме, а на всяком месте будут поклоняться Богу (см.: Ин. 4:20–21). Причастие Луки и Клеопы – одно из первых Причастий, которое совершилось не в Иерусалиме. Это свидетельствует о том, что Причастие будет совершаться по всему миру.
Больше того, пока они возвращались в Иерусалим, Господь явился Петру и его тоже утешил. Какова была эта встреча после того, как Петр отрекся и потом горько плакал о своем отречении, трудно себе представить. Об этом Евангелие не повествует. Но Господь сказал ему: …Аз же молихся о тебе, да не оскудеет вера твоя, и ты некогда обращься утверди братию твою (Лк. 22:32). Видимо, Петру особенно все верили, потому что это была такая прямолинейная, непосредственная личность – раз сказал, значит, сделает точно так, как сказал. Вот такой замечательный момент, когда мы размышляем над сегодняшним Евангелием.
Есть такое изречение: последнее слово науки – это первое слово Библии. И все, до чего человек может додуматься, опять же с помощью Божией, – это все уже есть в Слове Божием. Хоть ученики и шли со Спасителем, но не узнавали Его, и Он им разъяснял всю дорогу, а только уже потом открыл Себя. И в жизни каждого человека это происходит. Но наши душевные и телесные очи очень часто этого не видят.
Есть такая замечательная притча, когда один человек в своих житейских сложностях обратился к Богу с воплем:
– Господи, совсем Ты меня оставил!
На что Господь ответил ему:
– Это тебе так кажется, на самом деле Я все время с тобой. Смотри: вот твоя жизненная дорога и твои следы. А рядом с твоими следами – другие. Это Я рядом с тобой шел.
– А вот здесь только одни следы...
– Это Я тебя на руках нес.
Это как раз и есть тот пример Луки и Клеопы, когда они шли и не знали, что с ними Господь. Мы все по этой жизни путешествуем. Часто Господь в обстоятельствах жизни, в мыслях нам подсказывает, разъясняет, а мы не чувствуем этого. Открывается же обычно это в причащении, как и им открылось. Когда человек не понимает, что с ним происходит, он должен прийти, исповедоваться и тогда уже причаститься. При причащении, когда человек стремится к этому и трудится над своей душой, Господь откроет ему, потому что и ученики Его тоже трудились – путь их был долгий.
Дело в том, что в обычной жизни мы трудимся, учимся, а в духовной жизни пытаемся понять все сразу, не трудясь и не учась. Это как раз очень серьезная ошибка. Когда Господь стал ученикам все разъяснять? Когда они шли и рассуждали – как же это понять? Они стремились к пониманию сути происшедшего, их волновало это. И когда Господь преломил хлеб и дал им, они подумали: не горело ли сердце в нас, когда мы были на пути и слушали разъяснения Писания? Они сердцем загорелись, а умом еще не могли понять. Это потому, что сердце идет впереди.
У святых отцов на эту тему есть такое изречение: человек живет сердцем, а не умом; ум – рабочая сила сердца. Поэтому часто человек рассуждает разумно, а живет неразумно, если сердце нечисто, греховно. Рассуждать можно, а жить-то нужно. Вот когда жить-то нужно, тогда уже все становится сложнее. От избытка сердца человек и говорит, и творит. Один из наших православных мыслителей, Иван Васильевич Киреевский, писал, что рассуждения на духовные темы, оторванные от духовного труда, от сердечной деятельности, есть развлечение более пагубное, чем светское.
Да, невозможно понять и увидеть Бога с нечистым сердцем. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят (Мф. 5:8). Те, кто стремится к Богу, должны помнить, что нужно очищать сердце. Вот это как раз и есть тот подвиг, который совершают все христиане в разной степени. Очищение сердца происходит через исповедь, через покаяние. Те, кто без покаяния, без исповеди пытаются что-то узреть и понять, – наивны. Это невозможно. Так же как не увидели воскресшего Спасителя воины, стерегущие Гроб, – они были, как мертвые, от света, облиставшего их. Так же как не видели истину многие современники Спасителя, потому что, как сказал Господь, устнами чтут Мя, сердце же их далече отстоит от Мене (Мф. 15:8).
Сегодняшнее Евангелие как раз дает нам возможность размышлять над тем, как жить в наше время. Люди в каком-то смысле все одинаковые, поэтому все, что касалось апостолов, касается и нас. Нынешние люди закрутились в суете комфорта или так называемого прогресса, но, увы, лучше от этого не стали. Если не сказать, что хуже. Это печальный факт. Даже для того, чтобы здесь, на земле, жить, не говоря уже о вечности, нужно заниматься очищением сердца, совершать духовный труд. Если мы будем озлоблены, станем осуждать друг друга, раздражаться, гневаться, проявлять всякую неприязнь, то никакой комфорт не сделает жизнь нормальной, не то что райской. Хотя в отношении рая очень хорошо сказано: с милым рай и в шалаше. Это истина.
Все человеческие преобразования без перестройки души – крыловский квартет: как ни садитесь, а в музыканты не годитесь. Примитивно, конечно. Но те, кто до Евангелия не добрался, кому Священное Писание незнакомо, может быть, послушают хотя бы светских писателей, таких как Иван Андреевич Крылов, Федор Михайлович Достоевский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов. Или вот прекрасное высказывание Николая Васильевича Гоголя: «Мне кажется подчас, что всё, о чем мы хлопочем и спорим, есть суета, как и всё в этом мире. Об одной только любви следует заботиться, она единственная доказанная истина. Кто проникнется ею, говорит прямо обо всем, правдой повеет от слов его. Да поможет нам Бог возрастить любовь в сердцах наших».
Вот если бы все люди имели мир душевный и любовь, войн просто не было бы. Не нужно было бы содержать армию, технику, тратить на это средства и направлять умы. Вместо этой техники были бы условия для обычной бытовой жизни. Не нужно было бы ни тюрем, ни бракоразводных процессов, ни бюрократии всякой, не было бы брошенных детей, которые не знают, кто их родители. Я уже не говорю о всяких безумных вещах. И жизнь была бы другая. Об этом-то и говорил Господь: …Царство Мое не от мира сего (Ин. 18:36).
Люди гоняются за чем-то, идут по трупам, продают душу и тело ради временного земного благополучия, а дальше что? А дальше, как говорит святитель Николай Сербский, все погружается в жерло смерти. Как бы человек здесь ни изощрялся, все равно ему положен предел, и этого никто не избежит. Как бы человек ни был велик здесь, смерти ему не избежать. Это очевидная истина.
Но есть вечная жизнь. Почему мы так радостно празднуем Пасху? Потому что смерть – лишь временное разлучение. А дальше – воскресение. Вера в жизнь будущую, вечную, в блаженство или в мучение – об этом Церковь призывает задуматься. Если в этой жизни человек не жил, и там ожидает его не жизнь, а мучение. Если он здесь пострадает за правду, за истину, то там его ожидает блаженство. Истинная вера и здесь, на земле, дает человеку жить благодатно и распространять вокруг себя тепло и любовь, и впереди у него жизнь вечная.
2015 г.
Архимандрит Серафим (Кречетов), почетный настоятель храма Покрова Божией Матери, с. Акулово, Одинцовский благочиннический округ, духовник Одинцовской епархии