
Религия и культура в России. Россия как страна и тем более как цивилизация вызывает и будет вызывать к себе противоречивое отношение – от надежды до ненависти. По поводу места России в мире логически и исторически даются три главных ответа. Первый, сформулированный в свое время графом А.Х.Бенкендорфом, звучит примерно так: прошлое России замечательно, настоящее великолепно, а будущее превосходит всякое воображение. Второй ответ, противоположный, предложен в философской форме П.Я. Чаадаевым, и развит впоследствии всеми русофобами: Россия находится как бы вне общей истории человечества, и существует для того, чтобы дать миру какой-то важный урок. В ХХ веке эта мысль обрела вид пресловутой «циклической» концепции нашего национального движения, описываемого как вечное возвращение – диктатура-хаос, заморозок-оттепель. Третий, и единственно верный ответ дан две тысячи лет назад: «Кого люблю, того наказываю», и «Горе вам, богатые, ибо вы уже имеете награду свою» – обе эти заповеди неукоснительно соблюдаются в религии, государственности и культуре русского народа, служащего не «этнографическим материалом» истории, а действительно делающего её.
Обозначим некоторые сущностные вехи отечественной цивилизации, исходя из того, что цивилизация – это уникальная духовно-антропологическая сущность, развернутая в большом времени на всех уровнях социальной практики, а культура – её смысловой аспект. Образы, символы, знаки культуры – это ценностно-смысловая иерархия («лествица») цивилизации, одновременно сближающая и разделяющая между собой Бытие и относительное человеческое бывание. Применительно к исторической динамике, это означает, что некоторые оболочки цивилизации – в частности, самосознание, наука, искусство – могут иногда значительно отдаляться от её духовно-онтологического ядра, или даже вовсе противоречить ему.
Проще говоря, это означает, что история любой крупной культуры/цивилизации представляет собой драматическое взаимодействие между теоцентрическими (бытийными) и антропоцентрическими (социокультурными) её началами – от сакрального подобия в классике до люциферианского вызова в позднем модерне. В последнем случае между землей и небом война. Ныне, в начале ХХI столетия, мы присутствуем при очевидной (хотя и временной) победе человека над католическо-протестантским Богом в западном (евроатлантическом) мире, и одновременно при обороне «засадных» линий православия на пространстве России. Можно сказать, что главные события нашей социокультурной жизни суть узлы такой обороны, вплоть до сегодняшнего дня.
Узел первый – это, конечно, Крещение Руси, идущее от княгини Ольги и князя Владимира. Отметим, что сегодня появляется всё больше исследований о славянском язычестве как своего рода «светопоклонничестве», послужившем «подготовительным классом», «детоводителем» (по слову митрополита Илариона») к принятию христианства на Руси.
Следующий шаг к адекватному самоопределению цивилизационного статуса страны сделан новгородским князем Александром Невским, который однозначно предпочел отношения с Ордой, не покушавшейся на национальную культуру, союзу с Римом, норовившим окатоличить Русь. Этим шагом Александр надолго уберег Россию от колониальной вестернизации, в отличии, например, от Даниила Галицкого, последствия западнических симпатий которого мы расхлебываем до сих пор. Через 150 лет эту работу продолжил Сергий Радонежский, который не только благословил Дмитрия Донского на Куликовскую победу, но решающим образом поддержал духовную энергетику народа в кризисных условиях инокультурной и иноверческой оккупации. Василий Ключевский даже называл деятельность Сергия «вторым крещением Руси».
Подчеркну, что всё сказанное происходило в пространстве классической парадигмы, когда отношения между теоцентрическим и антропоцентрическим полюсами культуры развиваются по вертикальной ценностной доминанте. Первой серьёзной модернистской атакой на эту ключевую для нашей страны вертикальную ось стала цивилизационная революция Петра Великого, попытавшегося – в политических интересах империи – переобратить (инверсировать) вышеупомянутые полюсы (хотя сам он говорил, что Европа нам нужна на несколько лет, а потом…) Несомненная заслуга Петра – освоение западных наук и технологий (в чём обычно и видят главное его достижение), однако – вопреки собственной квазипротестантской идеологии – император переучил новую интеллигенцию (сначала по-немецки, потом по-французски, потом по-английски), оставив почти нетронутым реформой многомиллионный православный народ. Дворянство стало европейским, а народ остался русским, и как раз такая двойственность позволила сохранить фундаментальную для нашей страны классическую религиозную и культурную установку, хотя и породила в дальнейшем взаимное непонимание и даже вражду. У нас не было католичества, не произошло и реформации с её индивидуализмом и деизмом, и это точно соответствует словам Пушкина, что «Россия никогда не имела ничего общего с остальною Европою; тут нужна другая мысль, другая формула» (2).
Кстати, о Пушкине. По формуле Герцена, на реформы Петра Россия ответила явлением Пушкина. По существу, это означает, что при всей своей влюбленности в Петра, Пушкин объективно совершил культурную контрреформацию, наполнив жанрово-стилевые формы западного модерна традиционным (классическим) русским содержанием. Зрелое художественное мышление Пушкина как бы усыновило Петербург России, показав идеалистической и романтической Европе, что свободный гений может быть не только на стороне демона, но и на стороне Бога. Так или иначе, пушкинское миросознание восстановило нарушенное восемнадцатым веком истоковое соотношение между «верхом» и «низом» отечественного космоса, сделав возможным петербургский ХIХ век с его Лермонтовым и Гоголем, Тютчевым и Мусоргским, Толстым и Достоевским, Киреевским и Данилевским, Леонтьевым и Соловьевым.
По ходу нашего рассуждения с очевидностью проступают очертания духовного двигателя православно-русской цивилизации, в отличие от технико-экономического шага цивилизации постренессансного Запада, особенно англо-американского её сегмента. Вопреки всякому экономикоцентризму – от Адама Смита и Маркса до чикагской школы – социально-политические процессы в России находятся в прямой зависимости от её нравственно-эстетических, культуростроительных и, в последнем счете, религиозных решений. В феврале 1917 года, например, страна, вопреки войне, находилась на материальном подъеме, темпы хозяйственно-технического роста были самыми высокими в мире, и, по подсчетам Менделеева, через три десятилетия Европа имела бы у себя единственную сверхдержаву – Российскую Империю.
Парадокс Февраля. Однако, вопреки рациональным расчетам, теоцентрический узел русского мира не поддался столь естественным для прагматического капитализма рыночным средствам. Одним из наиболее ярких подтверждений идеократической природы государственности на Руси может служить Февральская революции 1917 года. Когда о причинах Февраля говорят историки, они долго перечисляют эмпирические условия и обстоятельства революции, от недостатка хлеба в столице и нежелания запасных полков отправляться на фронт, до мировой войны вообще как главной стратегической ошибки Николая Второго, от которой его предостерегали и Распутин, и Дурново. Все это верно, но все это лишь поводы и косвенные «подпорки» революции, а не её реальные движущие силы. Бывали и хуже времена: в 1812 году Наполеон взял Москву, но народ с армией объединились против общего врага, и русские полки прошли по Елисейским полям. А в феврале/марте 1917 года настроения общества оказались совсем иными, хотя боевые действия велись вдали от коренной России – в Польше, в Белоруссии, в Турции, где, благодаря победам Н.Н.Юденича, уже недалеко было до Константинополя. Да и до поражения самой Германии оставалось около года.
Со своей стороны, марксистко-ленинская теория полагает, что февральский переворот – типичная буржуазно-демократическая революция, когда надстройка – имперская власть – отстает от производственно-экономического базиса, государство ветшает, «верхи не могут, низы не хотят», и происходит сброс этой самой надстройки по всем правилам смены общественных формаций. И всё было бы прекрасно, однако возникает простой вопрос: почему после «бескровного» февральского переворота, когда к власти пришли долгожданные либерально-демократические силы («и дамы и дети-пузанчики кидают цветы и розанчики») в лице Временного правительства, этой власти хватило едва на девять месяцев? Почему «главноуговаривающий» товарищ Керенский не справился с войсками, и они, провалив летнее наступление, начали убивать офицеров, а потом разбежались по домам? Почему хваленая «невидимая рука рынка» не вылепила из России умеренной буржуазной республики по примеру союзной Франции, и эта «непредсказумая» страна, в которую можно «только верить», пошла совсем другим путем, совершенно неприемлемым для просвещенной Европы?
Размышляя о затронутых проблемах, я рискую задеть устоявшиеся предрассудки и «правых» и «левых». Однако «Платон мне друг, но истина дороже». Дело в том, что уже по ходу февральских событий в Петербурге, и сразу после них по всей стране началось тотальное уничтожение ключевых социально-культурных уложений, связанных с глубинным русским Логосом. В середине ХIХ века этот Логос определяли триадой «православие, самодержавие, народность». Как писал Иван Ильин, «Россия росла и выросла в форме монархии не потому, что русский человек тяготел к зависимости и к политическому рабству, но потому, что государство, в его понимании, должно быть художественно и религиозно воплощено в едином лице – живом, созерцаемом, беззаветно любимом, и укрепляемом этой всеобщей любовью» (1).
Конечно, после трех лет кровопролитной мировой войны эта любовь пошатнулась. Однако русские войска, несомненно, вошли бы в Берлин вместе с союзниками, если бы не измена высших военных и политических кругов. Как партийный проект «прогрессивного блока» и масонских лож, Февраль был долго вынашиваемым антимонархическим (в том числе дворцовым) переворотом, в котором участвовал даже великий князь с красным бантом. Имперская элита нравственно сгнила и перестала соответствовать внутренней потребности России в духовно авторитетной власти, защищать которую императору Николаю Александровичу пришлось почти единолично. Однако, уничтожив старую элиту, Февраль не дал стране искомой новой. Масон Керенский (Генеральный секретарь Верховного совета ложи «Великий Восток» России) со своей компанией на эту роль не годился. Конечно, это был трагический прерыв архетипа, благодаря которому российская государственность существовала, условно говоря, тысячу лет. Однако, как показали последующие события, в цивилизационном плане февральская революция привела скорее к смене элиты в рамках одного и того же культурно-исторического типа (термин Н.Я.Данилевского), чем к замене самого типа.
Вольно или невольно Февраль 1917 года оказался первым звеном в цепи событий, приведшей через несколько лет к формированию новой колоссальной империи, которая опиралась не только на народные традиции, но и на превращенные формы самодержавия и даже православия. В этом плане февральская революция сыграла положительную роль по отношению к осуществлению цивилизационного идеала, составляющего «сквозное действие» истории России вплоть до сегодняшнего дня. Она ясно показала, что либеральная буржуазия – тогда в лице Временного правительства – управлять страной не может. С точки зрения историософии, Февральская революция – это один из ключевых моментов воспроизводства Россией самое себя, причем через «отрицание отрицания», как сказал бы диалектик Гегель. Настоящие революции у нас происходят тогда, когда тот или иной правящий слой (в данном случае имперская элита) перестает отвечать требованиям её теоцентрического ядра. Буржуазный модерн в 1917 году не пришелся по нраву русскому народу, он предпочел модернизироваться другими способами, сохраняя при этом верность своей исконной соборной традиции – в официально атеистической форме «красной империи».
Русский Логос и русский коммунизм. Итак, в начале прошлого века в отечественной цивилизации/культуре произошел переход не просто к новому творческому методу или стилю – Серебряный век подготовил переход к новой жизни, которая, нравится это кому-либо или нет, почти на сто лет определила судьбы половины земного шара. Если называть вещи их именами, в итоге двух «серебряных» десятилетий – после Февраля и Октября 1917-го года – победил не белый (традиционная монархия) и не желтый (западническая рыночная демократия), а красный проект: русская коммунистическая идея. Она-то и оказалась главным социально-художественным произведением Серебряного века.
Как шутливо заметил Андрей Белый в своих «Воспоминаниях», первым делом после 1917 года в стране «победившего материализма» исчезла материя. Это исчезновение изображено у него и в стихах – в виде восторженного гимна:
Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия, –
Безумствуй, сжигая меня!
В твои роковые разрухи,
В глухие твои глубины, –
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.
Не плачьте: склоните колени
Туда – в ураганы огней,
В грома серафических пений,
В потоки космических дней!
Сухие пустыни позора,
Моря неизливные слез –
Лучом безглагольного взора
Согреет сошедший Христос.
Пусть в небе – и кольца Сатурна,
И млечных путей серебро, –
Кипи фосфорически бурно,
Земли огневое ядро!
И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия, –
Мессия грядущего дня!
(1917)
Со своей стороны, «крестьянский имажинист» Сергей Есенин также не пожалел своей прежней родины:
Небо – как колокол,
Месяц – язык,
Мать моя родина,
Я – большевик.
Ради вселенского
Братства людей
Радуюсь песней я
Смерти твоей.
Крепкий и сильный,
На гибель твою,
В колокол синий
Я месяцем бью.
Братья-миряне,
Вам моя песнь.
Слышу в тумане я
Светлую весть.
Это строки из поэмы «Иорданская голубица», написанной в июне 1918 года, всего через шесть месяцев после блоковских «Двенадцати» – этого «малого русского апокалипсиса». Что же за светлую весть услышал Есенин в тумане? Почему Белый назвал сгоравшую в революционном огне страну «Мессией грядущего дня», и куда, согласно Блоку, ведет Россию невидимый за вьюгой и невредимый от пули Христос?
Если сказать кратко, крупнейшие поэты, художники и мыслители модерна первых десятилетий ХХ века предчувствовали в совершающемся на их глазах революционном процессе возможность софийного преображения национального бытия. Александр Блок описал его в прозе: «Что же задумано? Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» (2). Выше мы заметили, что русский Логос в глубине своей оставался неизменным на протяжении почти тысячи лет после крещения Руси – в отличие от европейского ratio, приобретшего к началу ХХ века статус универсального средства построения антропоцентрического продукта – как культурного, так и социального. В такой идейной ретроспективе Владимир Соловьев оказался, в сущности, последним философом петербургской (серебряной) России, и, в то же время, зачинателем нового этапа её интеллектуально-художественной, и, в определенной мере, также социально-политической жизни. Символическая София и русский коммунистический проект связаны теснее, чем это представляется однозначно белым или однозначно красным толкователям этой темы. У них есть общие, причем давние исторические корни. Приходится признать, что классическая русская Симфония народа, царя и Бога оказалась искажена расколом XVII века и затем петровской западнической реформой — но не убита! Весь духовный накал и красота петербургской России происходили именно от усилий ее избранных представителей сохранить Симфонию, удержать русскую душу, оставить её у-богой. Пушкин «бежал к сионским высотам» и пел «Татьяны милый идеал», Киреевский и Хомяков строили христианскую философию, Тютчев предупреждал о последствиях европейского атеизма, Достоевский изгонял «бесов», наконец, Соловьев прямо предсказал скорое явление антихриста — все это были русские гении, для которых судьба человека и народа в вечности была важнее их преходящего статуса во времени. Петр вздернул Россию на дыбы (на дыбу) уздой железной, но он не смог разрушить основ отечественного Логоса даже в своем балтийском «парадизе» – городе Санкт-Петербурге, к которому перешли не только грехи Третьего Рима, но и его святыни. После Петра Русь как бы раздвоилась: Богочеловек и человекобог встретились друг с другом на улицах невской столицы. Как предупреждал, уже в преддверии революции, св. Иоанн Кронштадтский, «Россию куют беды и напасти. Не напрасно Тот, кто правит всеми народами, искусно, метко кладет на свою наковальню всех подвергаемых Его сильному молоту. Крепись, Россия! Но кайся, молись, плачь горькими слезами перед твоим Небесным Отцом, Которого ты безмерно прогневала!...» (3). Творец положил Россию на историческую наковальню, и отечественный Логос внутренне принял этот промысл, согласился на него. Христианская вертикаль русского мира не вместила в себя рыночного идеала народного существования. Русская душа и культура не хотели жить под давлением мирового золота, они внутренне отвергли от себя «ротшильдовскую идею». «Отойди от меня, буржуа, отойди от меня, сатана!» - записал Блок в дневнике, и эту «молитву» могли бы повторить за ним все те, кто превратил Третий Рим в Третий Интернационал. Со своей стороны, петербургская монархия – именно в силу своего рокового западно-восточного дуализма – не сумела защитить народ от власти капитала. Как формулировал в своей статье «Роковая двуликость Императорской России» архимандрит Константин (Зайцев), «императорская Россия неспособна была обнять своим взором исторический ход страны в той мирообъемлющей историософской концепции, которая присуща церковно-православному русскому сознанию, не тронутому западничеством» (4).
Я не буду повторять здесь общеизвестные мыслительные ходы авторов сборника «Вехи» (1909), проследивших тайну превращения социал-демократического европейского учения о рационализации мирового «человейника» (т. е. фактически о приспособлении к греху и смерти как норме существования) в отечественную — православную по истокам – мечту о планетарном спасении. Вопреки жесткому ветхозаветному креационизму, где падший человек наказан экзистенциальной пропастью между ним и Творцом, и, в отличие от неоплатонизма и герметизма, где мир и Бог, в конечном счете, одной природы («что вверху, то и внизу»), «отчалившая» Россия стремилась – вопреки закону, чудом – пережить воскрешение в пределах наличной истории. Не небо опустить на землю, как это сделало западное христианство (и римское, и особенно протестантское) а, наоборот, землю возвысить до небес. Отсюда и ведут своё начало таинственные повороты (и перевороты) нашей судьбы – в том числе три революции начала ХХ века, равно как и последовавший за ними позднее национальный коммунизм. Жажда праведного, а не только удобного бытия («не в силе Бог, а в правде») приводила у нас к софийной постановке ключевых социальных вопросов, и в первую голову вопроса о государстве. Скромный библиотекарь Румянцевского музея Николай Федоров проповедовал космическое «общее дело», в финале которого человечество, вместе с воскрешенными предками, должно отделиться от неоязыческой буржуазии и отбыть на другие планеты. «Русский дух насквозь религиозен. Он не знает, собственно, других ценностей, кроме религиозных» (5), – писал С.Л. Франк в 1930-х годах, уже обладая опытом революционных и послереволюционных событий. С самого зарождения коммунистической идеологии в России она была направлена к тому, чтобы — в искусстве, в философии и на деле — не столько бедных сделать богатыми, сколько, наоборот, богатых опалить пламенем очистительного пожара. Об этом – у Сергея Есенина:
Зреет час преображенья,
Он сойдёт, наш светлый гость,
Из распятого терпенья
Вынуть выржавленный гвоздь.
И из лона голубого,
Широко взмахнув веслом,
Как яйцо, нам сбросит слово
С проклевавшимся птенцом
(1917)
Об этом же – вызывающие строки старообрядца Николая Клюева:
Революцию и Матерь света
В песнях возвеличим,
И семирогие кометы
На пир бессмертия закличем!
Таков, нравится нам это или нет, итог Серебряного века. Этот век отнюдь не исчерпывался декадансом, богемой, гомоэротизмом, «Бродячей собакой» и тому подобными вещами. В 1919 году Василий Розанов отметил: «русскую жизнь испортили хорошие книги» (6). Он имел виду ту самую «святую» (по характеристике Томаса Манна) русскую литературу, которая звала к подвигу во имя высокого и прекрасного, почти не обращая внимания на его эмпирическую сторону, на «эти бедные селенья, эту скудную природу», которые, по слову Тютчева, исходил в рабском виде неузнанный Христос. На самом деле «хорошие книги» в поэзии и прозе отражали (сознательно и бессознательно) фундаментальный Логос народа, стремившийся к воплощению, и принявший в начале ХХ века образ творящей Софии и инспирированного ею цивилизационного взрыва. «Это шествуют творяне, поменявши д на т» (В. Хлебников). Материализм/атеизм советской России оказался только внешней идеологической оболочкой (псевдоморфозой) этого софийного сдвига. Его подлинным содержанием и целью был образ метаисторической истины – той же самой, что в «серебряном» искусстве и философии. Революция явилась превращенной формой русского Логоса, доведенной до прямой ненависти к непросветленной – пошлой, грязной, скучной – материи ветхого («буржуазного) существования. Сакральный смысл национального коммунизма очевидным образом представлен на страницах «Чевенгура» Андрея Платонова (1927), герои которого – в согласии с учением о богочеловечестве Владимира Соловьева, теорией общего дела Николая Федорова и концепцией лучистой энергии Циолковского/Чижевского – постепенно освобождаются от тяготы своих грешных и смертных тел. На вопрос об «ихней идеологии» председатель соответствующей комиссии отвечает: «Ее у них нету <…> Они сплошь ждут конца света…» (7). Это не еретический гностицизм и не декадентская танатология – это мечта о Новой Земле, где господа уступят место товарищам, а те, в свою очередь, станут братьями и сестрами. Эту землю – Китеж, Беловодье, Третий Рим – Русь искала всегда. Именно благодаря народному (соборному) удержанию онтологической вертикали – всеединства – Россия смогла победить в середине ХХ столетия оккультный нордический рейх и первой выйти в космос. Нашу культуру и историю первой половины прошлого века делали люди, по-своему верившие в вечную жизнь и готовые ради неё на смерть. Жизнь вообще продолжается до тех пор, пока кто-то за неё готов умереть. По этой причине мы до сих пор являемся альтернативой той «цивилизации вечера» (Abendland) которая стремительно мчится ныне в трансгуманистический ад. Как писала в 1917 году Анна Ахматова:
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие своё,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берёт ее,-
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Настоящее и близкое будущее. В дальнейшем, на протяжении ХХ века, подобные смены элит происходили в стране по меньшей мере трижды: от ленинско-троцкистского интернационал-коммунизма к сталинскому национал-большевизму, и далее (через хрущевско-брежневские вариации) к «новому февралю» 1991 года, преодоленному, в свою очередь, властной вертикалью Путина. Такова судьба изменившего национальной идее (или извратившего её) правящего класса. Коротко эта идея определяется словом правда, соединяющая в себе божественную истину с человеческой справедливостью. В верности такой правде и состоит смысл нашей истории. Читатель может спросить, почему искомая правда обретается у нас через революции, а не через парламентские процедуры. Причина в том, что Святая Русь – её внутренний метафизический центр – ищет не комфорта, а смысла жизни, а он плохо сочетается с лукавой машиной голосования, управляемой профессиональными демагогами («политтехнологами»). Скорее здесь подошло бы понятие искупления, когда грехи отцов приходится изживать детям. В определенном смысле Октябрь 1917 года является искуплением его Февраля, а Великая Отечественная война – искуплением Октября.
Сегодня в мире бурлят «цветные» («оранжевые», «желтые», «розовые», «голубые», «черные», «серо-буро-малиновые») революции. Чего хочет эта «раскованная» молодежь – то на Украине, то в России, то во Франции, то в США? Как выразился в своё время бывший черный президент Америки Обама, вопрос в том, кто на правильной стороне истории. Сегодня вещи называют своими именами. Собственно, их просто показывают, особенно детям, юношам и девушкам. 24 часа в сутки мировая сеть выбрасывает терабайты информации, половину из которой (это подсчитано) составляет порнография. Та самая, которую раньше подсовывали из-под полы где-нибудь на базаре или в сомнительных компаниях. Теперь это социальная НОРМА.
Или конец света. Оккультные группировки под разными слоганами предлагают красивую смерть – отказ от священного дара жизни ради черной дыры антибытия. Собственно, это и есть антицерковь, со своим тщательно разработанным концептуальным оснащением. Причем на просвещенном Западе дело обстоит серьёзнее. Если на Руси знают, что грешат, то тамошние либералы искренне полагают, что так можно, и даже нужно. Прогресс – это возрастание свободы! Нет Бога, нет традиции, нет нации, нет пола, нет Родины. Есть права человека! Радужный флаг – победитель небесного деспотизма. Рационализм – самодостаточный конечный человеческий рассудок – не различает ценностей. Как гениально предвидел Достоевский, «свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих». Недавно президент Франции Макрон – кажется, по поводу какого-то юбилея расстрела исламскими радикалами редакции журнала «Шарли эбдо» – гордо заявил, что каждый француз имеет право на богохульство. Это же прямо цитата из Великого Инквизитора: «О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить». Вспоминаются при этом многотысячные толпы на улицах города Парижа в январе 2015 года – с обнявшимися премьерами почти всех европейских стран во главе – громко кричащих: «мы все Шарли!». В переводе на человеческий язык: «мы все богохульники!».
Это цивилизация? Нет, это варварство. Причем варварство вторичное, постцивилизационное, наступившее после всеобщего торжества космополитизма/атеизма/либерализма (КАЛа). Если задуматься о функциональных корнях происходящего в ХХI столетии возврата к Хаосу, то придется признать, что это вторичный Хаос – в сущности, искусственный продукт, инвольтация онтологически темных (нисходящих) энергий. На наших глазах разворачивается полномасштабный инферногенез – в Европе, Америке и отчасти в России. Дело тут не только в транснациональных корпорациях, снимающих любые границы – от географических до моральных – для своих капиталов. Дело в исходных ценностных установках владельцев этих корпораций, полагающих подобную ликвидацию необходимой и успешной. Не экономика, вопреки Марксу, является базисом культуры, а, наоборот, культура является базисом экономики, государства и цивилизации вообще. А базисом культуры и цивилизации является религия. Цивилизация, культура и технология – это то, что вокруг культа (П.Флоренский). Культура – это сфера смыслов, а религия – это область совершенств и могуществ, эти смыслы определяющих.
Если капитализм как таковой возник вопреки христианству («раздай своё богатство, богатый юноша, и следуй за Мной»), то посткапитализму и вовсе ничего не стоит продать свою душу князю мира сего. В сущности, в ХХI веке мы встречаемся с глобальной империей/цивилизацией зла, ядро которой находится в виртуале, но культурное и технологическаое оснащение которой представлено на всех уровнях современного информационного космоса. Её своей волей – сознают они это или нет – творят свободные носители люциферианского выбора в истории. Такова сетевая интер-религия и интер-культура («сетература»), в экуменическом культе которых в принципе снимается различие между полетом и падением, ангелом и люцифером. Виртуальная реальность электроники – это жесткое дисциплинарное поле производства человеческой «инфо-массы» («видиотов»), находящейся под строгим контролем анонимного сетевого антицерковного управления. Таков ныне глобальный художественно-политический перформанс. Эстетика политики в информационном обществе важнее политической экономии: первая управляет второй.
Задумываясь о будущем подобного культурного строя, можно предположить следующее. Уже в ближайшие десятилетия возможно наступление жесткого «сетевого тоталитаризма», то есть нового мирового порядка, построенного именно на всеобщей относительности горизонтальных «пустых мест» цивилизационного пространства. Старомодное «дурновкусие» различения ценностного верха/низа может быть окончательно блокировано спекулятивными финансово-семиотическими играми, идеально встраивающими человека в игровую социально-компьютерную систему. Иначе говоря, возможна тотальная демонизация постхристианского мира, предсказанная таким мыслителями, как К.Н.Леонтьев, О. Шпенглер, Х. Ортега-и-Гассет, Р.Генон и др. – тотальное духовное раскрытие «мирового яйца» снизу для беспрепятственного воздействия на него инфернальных сил. В перспективе подобная социальная архитектура крайне неустойчива. Постмодернистская цивилизация находится в плену у своих неклассических технологий, это пиррова победа прометеевско-фаустовского проекта. Глобальный Фауст получит в ХХI веке своего Мефистофеля – но уже не вальяжного господина, как в величественном сочинении Гете, а трансгуманистического киборга, в котором будет смоделирован люциферианский выбор, сделанный либеральной элитой Запала к ХХI столетию. Антихристианская цивилизация вошла сегодня в гедонистическую фазу своей истории, предвещающую в обозримом будущем гностическую «культуру смерти», и последующий за ней суд. Храмы будут сожжены (Собор Парижской Богоматери – не единственный пример), христиане, как в Риме, уйдут в катакомбы, а на бывших стадионах развернутся гладиаторские бои. Все кончится антропофагией и войной всех против всех – Достоевский и это предвидел.
Что касается России, то здесь ещё «бабушка надвое сказала». В отличие от Запада, в основном уже определившегося, и в отличие от Востока, которому в известном смысле не надо определяться (ритуал всегда равен себе), России как срединной цивилизации материка («хартленд»), сочетающей в себе динамику Европы и устойчивость Азии, постоянно приходится делать судьбоносный выбор между восхождением и нисхождением, между классикой, модерном и постмодерном. Россия ещё открыта для выбора Бога. Либералы у нас надеются на то, что траектория прогресса ведет мир от низших форм к высшим, чтобы однажды привести его в совершенное состояние – к «концу истории» по Фукуяме. Это как раз то состояние, когда преступление будет объявлено нормой, а норма – преступлением. Так «модернизм, достигший стадии постмодерна, от апологетики всего изменчивого, инновационного перешел к апологетике виртуального. Виртуальные игры выступают высшей и последней стадией развития модерна как идеологии «неустанных перемен». Перед современным человечеством стоит выбор: либо оно, азартно «заигравшись» с виртуальным, окончательно разлучит себя с космосом (точнее, с Богом. – А.К.) и устремится к самоликвидации, либо на новом витке вернется к великой традиции, а вместе с нею – к реальному миру и к реальной ответственности перед ним» (8). В России пока есть возможность это сделать. Надо только ясно сознавать, что это будет именно НАШ ВЫБОР, а не какая-либо необходимость, навязанная людям извне – чем-нибудь вроде «чипизации», «зеленых человечков» или гостями с Марса. Значительная часть атеистической элиты – научной, художественной, философской – посвятила сегодня свой талант самоликвидации человека, и уже давно справилась бы с ним, если бы это зависело только от неё. Однако, как писал тот же А.С. Панарин, история – слишком серьёзное дело, чтобы доверять её только человеку. Своеобразие отечественной цивилизации проявляется в состязательности, конкуренции и даже борьбе между собой указанных установок творческого и нигилистического сознания, в то время как в современной Америке и Европе, например, они – во всяком случае, до 2020 года – коммерчески (путем символического обмена) сосуществовали. Не исключено, что коронованный вирус послан нам для того, чтобы не дать возможности пошлейшему глобализму подмять под себя остальной мир, заменив его пестротой национальных консерватизмов. Россия, по всей вероятности, найдет себе место в новом многополярном («постковидном») мире, особенно если Китай, Индия и Ислам помогут ей в этом. Не исключено также, что Господь своей всемогущей волей закрыл (возможно, на время) для части деградировавшего человечества дальнейшие пути познания твари, что не дать ему с помощью новейших технологий превратиться в грешного Бога (то есть поддаться все-таки древнему адамову искусу). Может, поэтому дети уже книг почти не читают, а смотрят мультики?
Впрочем, скоро мы это узнаем.
Александр Леонидович Казин, доктор философских наук, профессор, член Союза писателей России
Примечания
1. Ильин И.А. О русской идее // Русская идея. М., 1992. С. 436, 212.
2. Блок А. Интеллигенция и революция // Собр.соч. Т.6. М.-Л., 1962. С. 12.
3. Цит. по: Россия перед Вторым Пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии. М., 1993. С. 255.
4. Архимандрит Константин (Зайцев). Чудо русской истории. Сб. статей. Jordanville. Holy Trinity Monastery, 1970. С. 20-52.
5. Frank S. Die russische Weltanschauung. Darmstadt, 1967. S. 34.
6. Розанов В.В. С вершины тысячелетней пирамиды // Сочинения. М., 1990. С. 456.
7. Платонов А. Чевенгур. М.: «Советская Россия», 1989. С. 100.
8. Панарин А.С. Русская культура перед вызовом постмодерна. М., 2005. С.47-48.







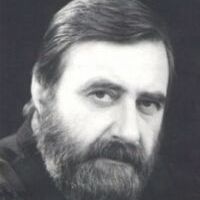


















1. Где История?