
«– А Пушкин?
– Пушкина нет там. Я сам тоже подумал, отчего нет! Ведь он хений».
Спрашивает Илья Ильич Обломов, проживший жизнь.
Герой Гончарова сберёг, конечно, где-то там, глубоко, в неоскорбляемой части души, и летнюю поэму любви, и вечно цветущую сиреневую ветку, и Божественное пение Ольги Ильинской. Но сейчас, в конце земного пути, он на Выборгской стороне, рядом со своей Милитрисой Кирбитьевной – Агафьей Пшеницыной. Золотая рамка найдена, выделка покоя сотворена, поэзия жизни сложена. И глядя на мир отсюда, из своего прекрасного полусонного царства, из волшебного зазеркалья, где перекликаются то ли канарейки, то ли ангелы, Обломов немедленно реагирует на несправедливость. В числе лучших, в каком-то криво-накриво пересказанном газетном обзоре, не упомянут Пушкин! Так почему же?
Отвечать приходится на всё согласному и всё принимающему как есть Алексееву – тихому герою-спутнику, чьи перемолотые временем слова похожи больше на глухое отзвучье людского моря, на муку бытия, не из которой ли, как знать, пекутся славные пироги с цыплятами и «с свежими грибами». «Не хуже наших обломовских», – хвалит их обычно Захар. Вернее, хвалил, потому что у Обломова недавно случился удар, и ему, под неусыпным вниманием любящей хозяйки, разрешена теперь уха из ёршиков да вишнёвый кисель.
Ах, кисельный бережочек, как ты обманчив. Ах, седьмая вода на киселе – как далека ты от родного берега. И как близка.
Стало быть, ответ держит Алексеев, будто смягчая все углы и грани, произнося «г» как «х» – на староотеческий лад.
Имя Пушкина, вспыхнувшее сквозь по-детски чистые слёзы о былом на излёте романа, было священным для Гончарова. «Когда он вошёл с Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию…» – делится Иван Александрович университетскими воспоминаниями. И что ж это за час такой счастливый выпал, и можно ли забыть о весёлом пушкинском солнышке?
Но никуда не деться и от другого, пасмурно-тусклого, тревожно нахмуренного зимнего неба: «Я помню известие о его кончине… И в моей скромной чиновничьей комнате, на полочке, на первом месте стояли его сочинения, где всё было изучено, где всякая строчка была прочувствована, продумана… И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его больше нет… это было в департаменте. Я вышел в коридор и горько-горько, не владея собою, отвернувшись к стенке и закрывая лицо руками, заплакал… Тоска ножом резала сердце, и слёзы лились в то время, когда всё ещё не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я мысленно склонял колени, лежал без дыхания. И я плакал горько и неутешно…»
То другие, неизбывные слёзы.
Детство России закончилось, когда не стало Пушкина.
Из дальнего-дальнего детства помню: Корсунская дорога, буйная июньская зелень, Пушкинский праздник в Языково. И Пушкинская ель. В не счесть сколько обхватов. И надпись на табличке: «Внимание! По преданию эта ель посажена Александром Сергеевичем Пушкиным». Тихая, таинственная вода прудов. Деревянная лесенка, ведущая на скромную сцену – прямо под открытым небом. Люди поднимаются, рассказывают что-то, читают стихи. И мой отец тоже читает. А я, ничего не понимая, почему-то радуюсь. А потом заезжаем в Прислониху, идём к пластовскому роднику.
Через много лет снова посчастливится мне побывать в Языково. И я буду тихонько рассказывать милой своей Таточке, жене, о легендарной ели, о том, какой виделась она мне с издетства. И сетовать: наверное, все прежние хранители сменились.
Вдруг меня кто-то окликнет и назовёт по имени. Окажется, здесь никого и никогда не забывают. Здесь, на родной земле. И будет удивительно сердечный разговор. И будет долгий и яркий летний вечер, а в мягких сумерках среднерусского благословенного лета взмахнут тёмно-пёстрыми шалями мудрые совы. Им тоже есть что сказать, чем поделиться, что вспомнить…
Но то Пушкинский День рождения, июньский праздник в Языково, царственная зелень просторного летнего дня. Впереди солнцестояние. Вся жизнь.
А теперь зима. Коренная, снежная. С ещё короткими тенями и длинными ночами. С северным ветром, который так и хочется назвать Бореем. С оковами льда на реках, которые и подо льдом стремятся к движению. С холодными звёздами. Молчаливыми? Равнодушными?
«Ты себя не спрашивай – поэт ли? // Не замедлят – возведут в пииты! // Все пути – от пули и до петли – // Для тебя с рождения открыты. // И когда забьётся человечье – // Ты поймёшь, мотив припоминая: // От Елабуги до Чёрной речки – // Широка страна моя родная».
С Ириной Ратушинской не поспоришь. И цветаевскому мужественному слову не возразишь: «Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили». Да и о чём тут держать спор, чему возражать, если такова наша история. Вдруг – по-ребячески совсем – подумалось: проживи Пушкин ещё десятилетие, всё могло бы поменяться для России – отступили бы войны, жестокость друг к другу сменилась бы на милость. «Человека, человека давайте мне! Любите его!» – восклицал Обломов, следуя, как и сам Гончаров, пушкинскому лучу.
И ещё одна наивно-детская мысль: Пушкина не могли убить в июне, и не весной, и не осенью. Нет, только в зимнее выстуженное время. На низком солнце. На высоком снегу. Но сам же Пушкин опровергает этот наив. А как же «Мороз и солнце; день чудесный!», а «Морозной пылью серебрится // Его бобровый воротник», а синица, что «тихо за морем жила» – из ещё одного, со страниц букваря всем нам памятного, зимнего пушкинского шедевра?
«Звезда пленительного счастья» и в снежном декабре, и в траурном январе сияет неравнодушно.
Забытый историограф литературы Пётр Николаевич Полевой, в «Истории русской словесности», так начинает главу о Пушкине: «Немного более полувека прошло с кончины Пушкина, и имя его уже вполне сознательно повторяется миллионами уст, повторяется с восторгом, с благоговением, с глубоко прочувствованной признательностью… Мы говорим: Пушкин – и в сознании нашем является представление о чём-то высоко изящном, прекрасном и по сущности своей, и по форме. И под этим именем мы разумеем не личность, даже не произведения поэта, а… великого творца и доброго гения русской поэзии, облечённого в светлую ризу».
Прошло ещё полвека. И ещё. Вот уже и 184-ая годовщина со дня смерти поэта наступает. Мы всё дальше от Пушкина. Но и всё ближе к нему. Да и может ли быть иначе, если такие люди посвящали пушкинскому наследию жизнь, как Павел Васильевич Анненков, Дмитрий Николаевич Садовников, Семён Степанович Гейченко, Дмитрий Дмитриевич Благой, Борис Викторович Томашевский, Юрий Николаевич Тынянов, Юлиан Григорьевич Оксман… И как это важно, что у каждого города сложились свои отношения с пушкинским гением.
Пушкин и Симбирск – история особая. Александр Сергеевич бывал на Венце, любовался Волгой и Воложками, был приглашён на торжественный обед в доме губернатора Загряжского, прогулялся по Троицкому переулку, любовался домом Карамзиных… Впрочем, что это я? Лучше замечательного ульяновско-симбирского краеведа и блестящего знатока истории литературы Жореса Трофимова не скажешь: «На рассвете следующего дня поэт отправился с Венца по Смоленскому спуску до нижней волжской набережной. Покидая город, с которым волей судеб было связано столько поездок, Пушкин довольно хорошо узнал его, увидев со всех сторон горизонта: приехал он из Казани в Симбирск – с севера, на запад – уезжал в Языково, с юга – видел Симбирск при неудачной поездке до Сенгилея и обратно; находясь же на паромном дощанике, поэт любовался живописным, покрытым садами склоном высокого берега Волги – таким открывался перед ним вид на горе с востока. Эту прощальную картину он запечатлел в своей дорожной тетради: на двух развёрнутых страничках скупыми, но точными карандашными линиями обозначил Венец…»
Вспоминаю Жореса Александровича с благодарностью, наши с ним разговоры о Гончарове, о русских писателях…
…Быстро темнеет. Расходится снег. Пора открыть окошко и подсыпать семечек в кормушку для птиц – вдруг да и пушкинская синица прилетит и расскажет сказку.
Время задаёт много вопросов. Самые сложные – детские. Или вечные. Как кому нравится. Почему так быстротечна жизнь? Зачем люди любят друг друга? Как можно человеку сохранять в себе человечность? Нужно ли говорить правду? Что такое справедливость? Есть ли что-то большее у нас, чем русское слово?
И когда ты пытаешься отвечать, или хочешь сам полюбопытствовать о чём-то, как тебе кажется, важном, неизменно – само-собой так получается – сверяешь свои выводы и раздумья с мнением родных тебе людей, лучших друзей, любимых писателей. Думаешь: как бы поступил тот или другой, что бы выбрал?
И, пожалуй, главным ориентиром не только лично для кого-то, но для отечественной культуры и жизни нашей в целом – навсегда останется краткая и незаменная нравственная сверка:
– А Пушкин?
Иван Владимирович Пырков, член Союза писателей России, доктор филологических наук, лауреат Международной премии им. И. А. Гончарова













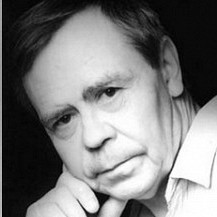












2. Великий Пушкин
1. ...