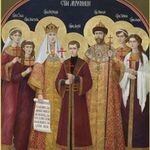«К тому же, - продолжил историк, - апеллировать к позиции новомучеников странно еще и потому, что она у них была неоднозначна по поводу непоминания. Например, святитель Кирилл (Смирнов) советовал своим духовным чадам не ходить в «сергианские» храмы, однако, при отсутствии выбора все же разрешал там молиться. А вот пример митрополита Иосифа (Петровых), который был канонизирован Русской Зарубежной Церковью, свидетельствует об обратном. Автор пишет, что в настоящее время комиссией по канонизации обсуждается вопрос о причислении владыки Иосифа к лику святых - после этого членам комиссии в священном сане остается этот сан с себя сложить, потому что митрополит Иосиф жестко заявлял о том, что таинства «сергиан» безблагодатны. А священники из комиссии, да и сам автор сборника, приняли священство именно у «сергианских» архиереев».
«Несостоятельно, на мой взгляд, также и сравнение жизненных путей и позиций митрополита, а затем патриарха Сергия (Страгородского) и его тезки, митрополита Сергия (Воскресенского). Несостоятельно, прежде всего, потому, что мы все-таки не может однозначно, абсолютно точно сегодня сказать, кто такой был митрополит Сергий (Воскресенский). Мы не знаем, по чьему-то приказу или по своей инициативе он остался под оккупантами. Это могло быть задание, чего нельзя исключить. Он мог быть двойным агентом, мог быть агентом, вышедшим из-под контроля, а мог быть вообще не агентом. И пока мы в этом не разберемся - если это и будет, то нескоро - эту фигуру трогать опасно, чтобы не нагромоздить каких-то ложных выводов. При сравнении двух Сергиев за рамками осталось обращение Сергия Младшего в 1943 году, во время наступления Советской армии, к жителям Прибалтики и вообще всех территорий, на которые распространялась юрисдикцией его экзархата с тем, чтобы они вставали в ряды вермахта. Я сам видел этот документ - типографским способом отпечатанный призыв отвергать помощь Советов и вступать во вражескую армию. Митрополит Сергий понудил подписаться под этим призывом все подвластное ему духовенство (сами священнослужители поставили свои подписи или это сделали за них - уже трудно сказать). Отсюда - история преследования священников Прибалтики и всего северо-западного края, в том числе - игумена Павла (Горшкова), наместника Псково-Печерского монастыря», - отметил профессор Светозарский.
«На мой взгляд, - продолжил эксперт, - нельзя смотреть на митрополита Сергия (Страгородского), будущего патриарха, с точки зрения непоминающих новомучеников. Их период прекращается с концом эпохой «большого террора», когда люди физически уничтожались. Потом история пошла не так - если бы террор продолжался, как намечалось, то в стране действительно не осталось бы ни одного священника. Но началась война, и митрополит Сергий благословил наш народ на борьбу с врагом. Да, понятно, что митрополит Сергий был далеко не Гермоген, но тем не менее, именно он призвал всех на сопротивление фашизму - это факт непреложный и именно таковым и останется, хотя все остальные детали его биографии можно обсуждать. У отца Георгия есть интересный момент: он пишет, что митрополит Сергий или Сергий Младший (так его называли современники, так называют и исследователи, чтобы различать двух митрополитов) остался в оккупации в Риге по благословению Сергия Старшего. Для меня это новость, откуда взялась эта информация - непонятно».
 «Еще один момент: автор распространяет прещения, вынесенные Архиерейским Собором 1943 года, на прихожан почти 12 тысяч храмов, которые оказались на землях, захваченных фашистами. Если исходить из текста постановления этого Собора, то речь обо всех без исключения прихожанах не шла - там осуждались, что вполне понятно в контексте времени, духовные лица и миряне, сотрудничавшие с оккупантами. Это, не скажу - передергивание, но - неточность. Если вернуться к трактовке личности митрополита Сергия (Воскресенского), то отец Георгий приводит у себя в книге факт того, что владыка был агентом, который был направлен в Прибалтику для устройства там церковной жизни. Факт этот приводится со ссылкой на АПРФ - я думаю, что это Архив Президента Российской Федерации. Я не знаю, прямая ли это ссылка, потому что попасть в этот архив достаточно сложно. Единственный человек, который с этим документом точно работал - московский писатель Михаил Иванович Вострышев, который в свое время текст этого документа опубликовал в газете «Московская правда», но, правда, это не вызвало отклика у исследователей. Отец Георгий безапелляционно заявляет (потом, правда, оговаривается, что возможны варианты), что митрополита Сергия (Воскресенского) убили агенты НКВД. Насколько я знаю, исследователи давно от этой версии отказались», - обратил внимание заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии.
«Еще один момент: автор распространяет прещения, вынесенные Архиерейским Собором 1943 года, на прихожан почти 12 тысяч храмов, которые оказались на землях, захваченных фашистами. Если исходить из текста постановления этого Собора, то речь обо всех без исключения прихожанах не шла - там осуждались, что вполне понятно в контексте времени, духовные лица и миряне, сотрудничавшие с оккупантами. Это, не скажу - передергивание, но - неточность. Если вернуться к трактовке личности митрополита Сергия (Воскресенского), то отец Георгий приводит у себя в книге факт того, что владыка был агентом, который был направлен в Прибалтику для устройства там церковной жизни. Факт этот приводится со ссылкой на АПРФ - я думаю, что это Архив Президента Российской Федерации. Я не знаю, прямая ли это ссылка, потому что попасть в этот архив достаточно сложно. Единственный человек, который с этим документом точно работал - московский писатель Михаил Иванович Вострышев, который в свое время текст этого документа опубликовал в газете «Московская правда», но, правда, это не вызвало отклика у исследователей. Отец Георгий безапелляционно заявляет (потом, правда, оговаривается, что возможны варианты), что митрополита Сергия (Воскресенского) убили агенты НКВД. Насколько я знаю, исследователи давно от этой версии отказались», - обратил внимание заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии.
«Книга отца Георгия по своему жанру - это историческая публицистика. Все мы можем рассуждать на исторические темы, в том числе, и ваш покорный слуга. Повторюсь: в книге нет ничего принципиально нового - автор снова проговаривает свои взгляды, но без крайностей. В этом смысле его книга похожа на попытку реабилитации. Грустно при этом, что единомышленники отца Георгия - их немного, но они неутомимы - продолжают возводить стену между реальной историей и той историей, которую они себе мыслят. Грустно, что они не хотят пересматривать уже совсем замшелые взгляды и более того - не обращать внимания на элементарную фактологию», - заключил профессор Алексей Константинович Светозарский.










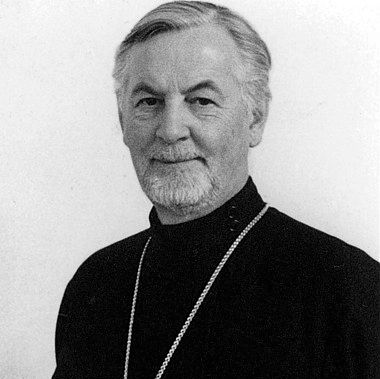
.jpg)