 ...Что-что,
а карандаши в редакции журнала «Волга XXI век», возглавляемого Николаем
Болкуновым, всегда натачивались «на ять». Впрочем, «возглавлял»,
«руководил», «долженствовал» - это все нашего редактора не касалось. Он
был абсолютно творческим человеком во всем, последним, по существу,
романтиком редакторского дела, свято верившим в то, что слово может
изменить мир к лучшему.
...Что-что,
а карандаши в редакции журнала «Волга XXI век», возглавляемого Николаем
Болкуновым, всегда натачивались «на ять». Впрочем, «возглавлял»,
«руководил», «долженствовал» - это все нашего редактора не касалось. Он
был абсолютно творческим человеком во всем, последним, по существу,
романтиком редакторского дела, свято верившим в то, что слово может
изменить мир к лучшему.
Тогда, в 2004‑м, я все никак не мог освоить быстрый набор на компьютерной клавиатуре и заметил на одной из планерок, что русские писатели-де обходились же как-то безо всей этой новомодной техники. Николай Васильевич улыбнулся моему ребячеству и подозвал к монитору. «Когда касаешься клавиш пальцами, передаешь им частицу сердца. Нервы у писателя - на кончиках пальцев. Даже одну и ту же букву можно напечатать с разным эмоциональным наполнением». И он набрал строчку из Пушкина: «Духовной жаждою томим...».
Пожалуй, одухотворенность слова являлась главной отличительной чертой всех без исключения книг Николая Васильевича. Он никогда не писал сгоряча, вынашивал каждую вещь подолгу, старался увидеть за повседневными событиями жизни знак высшего промысла. И в то же время не смотрел, как случается, бывает, у людей пишущих, на своих персонажей лишь с авторской, утилитарной точки зрения. Для Болкунова все его герои были живыми, ранимыми созданиями, он чувствовал их дыхание. А еще верил, что они чувствуют - его. Поэтому-то он знал, что значит «выстрадать книгу». Понимал, что должно не по коридорам чиновничьим носиться, «выбивая» сумму на издание очередного «тома», а находиться в поисках Света и Духа. Порою - в мучительных поисках.
Вот откуда, не в последнюю очередь, его духовнообразующее признание в «Автобиографии»: «Я настаиваю: писатель должен постоянно носить в себе чувство греховности. Причем это чувство является, в первую очередь, производным не от греха, а от совести. Конечно, у каждого из нас свои критерии самооценки и самооправдания. Однако если есть обнаженная, живая совесть, она непременно рождает в человеке чувство греховности. А значит, создает предпосылки к его очищению. Этот процесс очищения, на мой взгляд, лежит в основе творчества. Он же вызывает душевное очищение и у читателя, который сопереживает героям произведения. По-ученому это называется катарсис».
Открываю роман «Прости мя, Господи» на любимой своей главке - «Великое Воскресение». Написано так, как если бы отдаленная годами и верстами картина узнавалась сначала по отдельным штрихам, по интонациям, по линиям движения, и только потом вдруг вплеснулась бы в оконные рамы памяти вместе с Воскресным солнечным светом. Зажмуришься, а свет еще ярче!
«Христос воскресе, - бабаня улыбается щербатым ртом и в сухонькой ладошке протягивает мне крашеное яичко.
- Воистину воскрес, - отвечаю я и тянусь губами к ее светлому лицу.
Нынче даже морщинки у нее праздничные - на солнечные лучики похожие. А какой дивный запон ей мама сшила: на зеленом поле красные ягодки - точь-в-точь лесная опушка в займище. Бабаня в нем как барыня - до того нарядная, глаз не оторвешь. Это уж так заведено у нас дома: к Христову Воскресенью какую-никакую, а обновку каждому. Я смотрю на высокий куличок, на его макушку, помазанную белым, а сам жду не дождусь: когда же?..» И вот еще живой слиток истинной русской речи: «В прошлую пятницу ходили с бабаней в степь - на задах нашего двора начинается - мошку собирать. Славная травка - мошка, не спутаешь ни с чем. Снег в степи стаял, подсохла чуть земля - она первой лезет наружу. Словно выдох степной после зимней спячки. Свиду колючка колючкой, неделю-другую покудрявилась, позеленела и жухнет - неказистая. А только к Христову дню - нет травки необходимее. В луковой шелухе яйца сваришь - они что жженым кирпичом напачканы. Вот в мошке - совсем иное дело: янтарно-желтая краска так и горит на них, так и светится».
 Как-то
Николай Васильевич признался на творческой встрече с читателями, что
долго подбирался, именно «подбирался» к роману «Прости мя, Господи».
Разговор о былом, о детстве, о родных, о потерях, о том, что болью
отзывалось в душе, требовал самоотречения и самоотверженности. И верно,
Болкунов писал книги, как будто исповедовался, как будто сознательно
оставался без кожи, обнажал сердце перед всеми тревогами и
несправедливостями этого мира. Он не мог, не умел быть другим, не хотел
«смотреть на все сквозь пальцы» или отгораживаться ото всего
самозащитной иронией. Николай Васильевич был и всегда останется для меня
учителем, мудрым наставником, но он также был совершенным ребенком.
Свойство настоящего - каких мало - писателя!
Как-то
Николай Васильевич признался на творческой встрече с читателями, что
долго подбирался, именно «подбирался» к роману «Прости мя, Господи».
Разговор о былом, о детстве, о родных, о потерях, о том, что болью
отзывалось в душе, требовал самоотречения и самоотверженности. И верно,
Болкунов писал книги, как будто исповедовался, как будто сознательно
оставался без кожи, обнажал сердце перед всеми тревогами и
несправедливостями этого мира. Он не мог, не умел быть другим, не хотел
«смотреть на все сквозь пальцы» или отгораживаться ото всего
самозащитной иронией. Николай Васильевич был и всегда останется для меня
учителем, мудрым наставником, но он также был совершенным ребенком.
Свойство настоящего - каких мало - писателя!
У мудреца Пришвина есть такой замечательный оборот речи - «неоскорбляемая часть души». Неоскорбляемая, то есть не поддающаяся действию извне, свято хранимая тобой и тебя хранящая. Так вот, для Болкунова «неоскорбляемой частью» всей его жизни была семья. Семья, где любовь и вера неразделимы. Проза Николая Васильевича глубоко духовна по своей сути. Но я хочу подчеркнуть, что писатель не манифестировал специально этой направленности своего творчества. Названия, взятые из канонических источников и в открытую отвечающие, так сказать, на вопрос о религиозности автора («...И было утро», «Прости мя, Господи», «Утоли моя печали»), на самом деле отражают, скорее, его вопрошания. Что есть истинная вера? Почему так хрупка любовь? Откуда в мире столько несправедливости и боли? Как противостоять истончению духовных основ бытия? Память человеческая - долга ли она, коротка ли? Чудо Воскресения - что это для каждого из нас?
Светлый праздник Пасхи был для Николая Васильевича чем-то особенным: его он ждал, к нему готовился, внутренне преображаясь и как бы отбрасывая хотя бы на время все суетное, приходящее. Помню, в редакции под моим, так сказать, ведомством был стол, полный рукописей - я вел поэтический отдел и имел нехорошую привычку откладывать материалы самотека «в редакционный портфель», на всякий случай. Ящики стола поскрипывали от напряжения, раздавались в стороны, но до поры держались, и Болкунов в который уж раз просил меня разложить тексты по папкам. «Только этот листок положу, а завтра же рассортирую все рукописи», - отвечал я, благодушно отправляя в стол чье-то напечатанное на машинке стихотворное творение, где «кровь рифмовалась с любовью». Этой последней капли мой бастион из четырех ящиков не выдержал и развалился прямо на глазах редактора. «Иван, я же просил...» - только и покачал головой Николай Васильевич. И тут мы почему-то рассмеялись. «Пойдем, пройдемся до Волги», - предложил Болкунов. Было еще утро. Разгорался апрель, до Пасхи оставались какие-то дни. Мы неторопко шли вниз, к реке, и с каждым шагом все острее чувствовали пьянящее дыхание ледохода. Редкие льдины плыли медленно, и только что прилетевшие чайки гордо капитанили на ледяных мостиках. Глядя на Волгу, Николай Васильевич рассказывал мне о своем понимании литературы, о важном, судьбоносном уделе русской провинции, о молодых талантах, которых нужно уметь найти, которым нужно помочь.
Вдруг до нас донесся удивительно чистый, просветленный звук. Мы не сразу поняли, что это колокольный звон. Со стороны Троицкого собора, особенно любимого писателем, плыли они, колокольные гулы, и показалось, что разносящийся в воздухе звук отражается от льдин и летит назад, к городу. Николай Васильевич обернулся в сторону церкви, и в это мгновение я понял, что значил для его неоскорбляемой части души храм Божий. Но разве мог я тогда предположить, что совсем скоро, через каких-нибудь три года, здесь, в Троицком соборе, будут отпевать раба Божия Николая...
...Случайно нашел в Интернете конкурсную работу старшеклассницы Олеси Киселевой, написанную, как я понял, в прошлом году, к празднику славянской письменности. Вот что она пишет: «У мамы на кровати, не на тумбочке, а почему-то всегда поверх покрывала лежит какая-нибудь книга. И я, проходя мимо, посмотрела, что же читает мама. Обычно это любовные романы, а на этот раз глаз почему-то зацепил название книги, написанное с ошибкой, как мне показалось сначала. Книга называлась "Прости мя, Господи", Николая Болкунова. Почему "мя"? Я открыла с конца, я всегда, когда выбираю книги, почему-то читаю последние десять строчек. Если мне нравится конец или он мне не понятен, я беру книгу, хотя наша библиотекарша Ирина Александровна каждый раз нас учит, как нужно выбирать книгу. Но почему же "мя"? Последние строчки мне ни о чем не говорят, открываю середину и натыкаюсь: "Петя, - зовет отец с крыльца. - Быстро покликай Романиху, бабаня скончалась..." И все - прошибло, как током. Перед глазами всплывает свой образ - мой отец выходит на крыльцо и кричит: "Татьян, зовите Ромашиху (разница в одну букву), бабаня умерла". Бабаня, бабанечка Сима - это моя прабабушка, милая, добрая-предобрая, ласковая, жалостливая... Взяла книгу, начала читать...»
Понимаете, живое слово всегда в родстве с нами. И если того, кто говорил или писал его, уже нет на свете, разве означает это, что его нет в нашем сердце и что мы не можем больше ждать помощи от него?
Фото из открытых Интернет-источников
Газета «Православная вера» №9 (509)
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/neoskorblyaemaya-chast-dushi














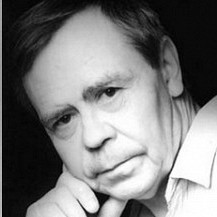




/Митрополит Тихон 8 марта.jpg)





