
Валенки…
Пусть не подшиты, стареньки, - будут куда роднее любых других; а три сосны, стоящие на Муромской дорожке, свидетельствуют в пользу прощания с любимым…
Голос Л. Руслановой бушует, широк, как Волга, льётся, отражая в себе биения русского пульса, поражает объёмностью своей, полётностью, потрясает, неистов, велик.
Он красив и силён, диапазон широк… будто беспределен: как небо, поднимающееся над нами, как степи, уходящие до горизонта.
Русланова – как символ русского народного пения.
Светит месяц, заглядывая в каждую душу.
Грустна «Липа вековая».
Окрасился месяц багрянцем: так и чувствуешь пульсации цветовых этих тонов.
Русланова – Прасковья вообще: из крестьянской, староверческой семьи; и по маме относилась к народности эрзя.
Отец, работающий грузчиком на пристани: дёготь тупого, изнуряющего труда.
Но пели много – работы ли полевые, гулянки, посиделки, впитывала девочка роскошь звучаний.
В деревнях пели душами, текли странные песни о надземной жизни, рвались заплачки, радугой переливались песни радости.
Плач – первое, что услышала девочка: отца забирали в солдаты, бабушка, выбиваясь из сил, цеплялась за неумолимую телегу, голосила.
Тёк плач.
Мать умирает, когда девочке было шесть: жизнь сама… плач.
Слепая бабушка и девочка, заботясь о сёстрах, ходят по Саратову, поют, просят милостыню.
Сыплются медные деньги.
Как не схоже с грядущим золотом славы.
Она становится Лидией Руслановой, когда её определяют в церковный хор, куда не берут детей крестьян, так появляется фиктивная грамота, так рождается – Лидия Русланова.
Регент очарован голосом, и уделяет девочке особое внимание; вскоре слух о ней наполняет Саратов, приходят – специально её послушать.
Она встретит отца – одноногого солдата с Георгиевским крестом, просящего подаяние у церкви, где она поёт; делают вид, что не знают друг друга – или выгонят из хора.
Жизнь тёрла Русланову в шероховатых ладонях долго.
Перед красноармейцами на фронте выступает, проходит годы Гражданской войны, и профессионально дебютирует в 1923 в Ростове-на-Дону.
Дон, Волга – кажется любая из великих рек в чём-то соответствует мощи её голосовой, сочетаемой с необыкновенной прелестью, душевностью.
В Москве Русланова становится солисткой театрального бюро Центрального дома Красной Армии.
Она выступает перед бойцами, одолевающими коричневого врага, она доходит с армией до Берлина, выступая, вызывая восторг, сильно поднимая дух.
Она была репрессирована: роскошь, в которой жила, чуть ли не коллекционируя драгоценности, вариант жажды компенсации нищего детства, юности ободранной, вынужденного попрошайничества.
Прошла лагеря, была реабилитирована.
Свет дальше тёк от её песен.
Грудной её голос – лирическое сопрано, переходящее в драматическое, переливы - от контральто к верхним нотам сопранового звучания…
Мёд и воздух.
Голос, ассоциирующийся со столь многим…
Репертуар широк: здесь и городские романсы, и песни…забытые, словно реабилитированные ею, и всё-всё, народное, могучее, исконное.
Так и играет её голос, золотясь, переливаясь, поднимаясь к самому небу, тая в себе коды русскости.







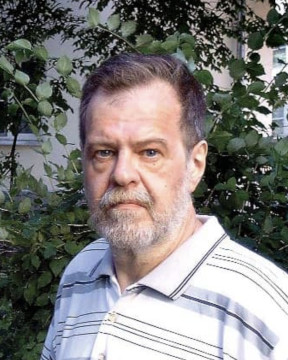















3. Ответ на 2, ipopov:
2. Ответ на 1, Советский недобиток:
Интересные, кстати, сведения о дореволюционной России.Автор путает разные вещи. Оставшись сиротой, Прасковья Лейкина (настоящее имя) побиралась, пела, просила подаяние. В ее судьбе приняла участие вдова одного чиновника, погибшего на Русско-Японской войне. Она смогла устроить ее в хороший приют, но он был не для крестьянских детей, поэтому ей выправили новые документы. А уже при этом приюте существовал церковный хор, в котором и пела будущая певица. Ни о каком запрете петь в хоре крестьянским детям не было и речи.
Аккуратнее надо с деталями.
1.
Интересные, кстати, сведения о дореволюционной России.