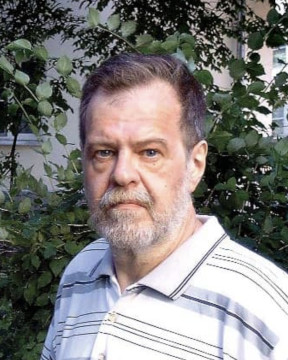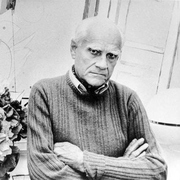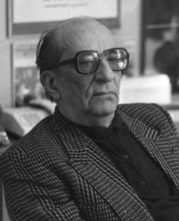Море манит – сине-зелёная игра стихии; галантность влечёт: прошлое выглядит много привлекательнее: вот пара, почти из Ватто, выходящая из дворца…
Всё должно быть утончено: и чувства, и ощущения, и искусство…
Тем жил и дышал Е. Лансере: мастер изящества, виртуозно прихотливой игры оттенков, полутонов, жемчужных отсветов…
Густо и сложно вязалась цепочка рода, родственных связей: Лансере был сыном скульптора, братом З. Серебряковой, художницы, племянником Александра Бенуа…
«Мир искусств» пронизывал, пропитывал его сознание, определяя границы достижений…
За них не выйти: но монументальность представлялась Лансере, вероятно, грубой, не подразумевающей утончённости.
В рисовальной школе он посещал различные классы, после много путешествовал по Европе: сей опыт окажется бесценным, да и вообще – как представить художника, ни разу не путешествовавшего?
Он издавал журнал политической сатиры «Адская почта», сотрудничал со многими издательствами, создал логотип знаменитого «Шиповника»…
Был в числе создателей «Старинного театра»: вспыхнувшего кратковременным интересным пламенем искусства.
Виды имперской столицы мерцали таинственно: иногда и пустота площадей становилась персонажем.
Лансере был военным художником-корреспондентом на фронтах Первой мировой; рисовальщиком в музее этнографии…
Как исторический живописец стремился к точности воссоздания духа эпохи…
Елизаветинское время раскрывалось русским рококо, и краски давались то приглушённо, но нежно.
Серия гуаши «Трофеи русского оружия» расходилась линиями правды и своеобразной красоты…
Монументализм его мастерства проявился в советское время: динамика пространственного построения сочеталась с пышностью обрамления и общей торжественностью…
Им оформляются плафоны в доме Тарасова в Москве, памятный зал Академии художеств в Петербурге…
Многое – в самых разных сочетаниях – представлено лентами творчества Лансере; и остаются – и причудливо-декоративные пассажи рококо, и монументальность явленных миру кавказских партизан…