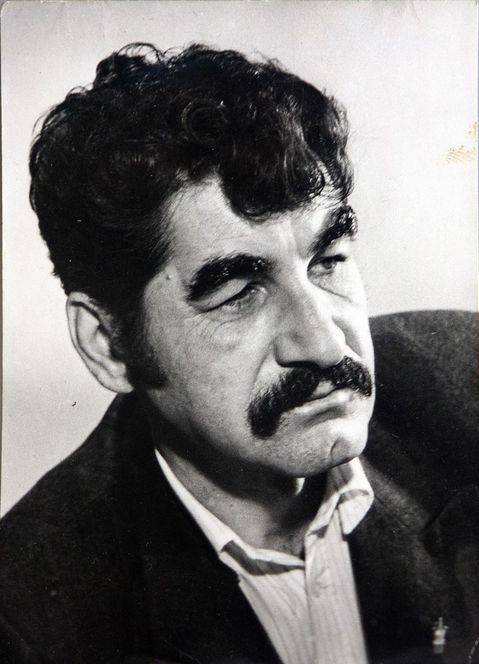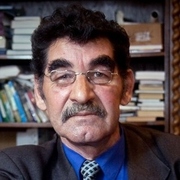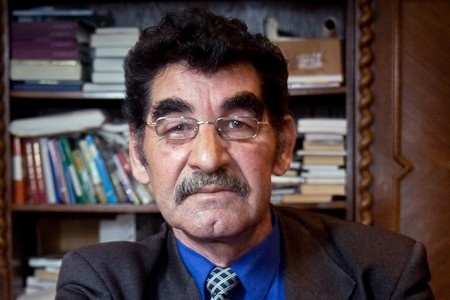
Историческая повесть
Учусь удерживать вниманье
долгих дум.
А.С. Пушкин
Сколько же лет Кубанскому казачьему войску?
Более двух веков прошло с тех пор как, бывшие запорожцы, верные черноморцы в 1792 году по Указу Екатерины II были переселены на берега Кубани, где им предлежали «бдение и стража пограничная от набегов народов закубанских». Более двух веков учреждения Императрицей и создания князем Григорием Потёмкиным Черноморского, позже – Кубанского казачьего войска. Но не дата сама по себе побуждает вернуться к первоначальной странице истории кубанского казачества. Но то странное положение в исторической науке на Кубани, которое сложилось давно и продолжается до сих пор, в понимании и толковании своей истории. Оказывается, что и до сих пор всё ещё точно не исчислена история Кубанского казачьего войска, когда и самого казачества в его традиционном виде не существует в России вот уже более века. При всём при том, что она не даёт никаких оснований для двоякого её понимания, так как водворение Черноморского войска на Кубань осуществлялось по высочайшему повелению и проводилось организовано. То есть, носило все признаки грандиозного события. Справедливо писал в своё время Иосиф Бентковский, что это переселение бывших запорожских казаков в Черноморию составляет, бесспорно, великий акт распространения русского элемента на Северном Кавказе, который «история в видах истины и полноты обходить не должна»: «Переселение Черноморского войска из-за Буга на берега Кубани, в целом его составе, представляет единственный случай в истории заселения наших вообще окраин, что одно это уже придаёт ему особенное историческое значение, к сожалению, до сих пор не выясненное ещё как бы следовало» («Заселение Черномории с 1792 по 1825 год», 1880 г.).
Вернуться к первоначальной странице истории Кубанского казачьего войска понуждает и то, что она не остаётся бесстрастным прошлым, но так или иначе связана с нашей нынешней жизнью. Примечательно и то, что история кубанского казачества в исследованиях историков не носила, как должно, постоянного характера, но изменялась во времени в связи с теми или иными соображениями, отнюдь не историческими. Это странное положение существует, к сожалению, и теперь. Сводится оно к тому, что к реальной истории Кубанского казачьего войска прибавляется сто лет… По причине того, что история его вдруг стала исчисляться по старшинству от Хопёрского полка, с 1696 года, то есть с того времени, когда не было ещё ни Хопёрского полка, ни Черноморского войска…
Подтверждением того, что эта странная история с историей Кубанского казачьего войска связана с нашим нынешним бытием является и то, что в наше время двухсотлетие войска было отмечено так же, как и его столетие в конце ХIХ века: вместо двухсотлетия, было предписано свыше отмечать его трёхсотлетие, причём, по причинам этого не предполагавшими. Об этом свидетельствовала юбилейная научная конференция в станице Полтавской 23-27 сентября (Краснодар, 1996), посвящённая трёхсотлетию кубанского казачества, а не его двухсотлетию. Нынешние кубанские историки, в своём абсолютном большинстве не посмели подвергнуть сомнению эту официальную установку, принимая её как аксиому, как исторический факт, каким она не является. Ведь старшинство войска – это, скорее, эмоционально-символическая величина нежели историческая.
К примеру, в год 215-летия Кубанского казачьего войска вышла книга историков, много сделавших по истории Кубани О.В. Матвеева и Б.Е. Фролова «Страницы военной истории Кубанского казачества» (Краснодар, 2007 г.), посвящённая его 310-летию. И историков, вроде бы, можно понять. Ведь они находятся в общепринятом установлении, тренде. Но мы, ведь, говорим всё-таки об истории, а не о том, какие обстоятельства мешают нам постичь то или иное явление. При этом механика подмены понятий до предела проста. Вместо реальной даты, которую трудно подвергнуть сомнению, которая и является-то первоначальной страницей истории кубанского казачества, берётся другая, причём, даже не дата, не событие, а всего лишь документ военного ведомства более позднего времени: «Старшинство Кубанского казачьего войска было установлено по Хопёрскому полку с 1696 г. (согласно приказу военного ведомства Российской империи от 28 марта 1874 г.). В 1896 г. Кубань торжественно отмечала 200-летие Кубанского казачьего войска. То, что эта дата условна, хорошо понимали современники с большим размахом отмечаемого юбилея». Чрезвычайно примечательна эта оговорка историков о том, что эта дата «весьма условна», то есть, не имеющая исторического значения. Но в таком случае, почему она отмечалась «с большим размахом»? И тем более, не было оснований считать её «более масштабной», чем столетие жития черноморцев на берегах Кубани. Так отмечала юбилей, как пишут историки, Кубань. Кубанское же казачество отмечало столетие создания своего войска и дарования ему земли на вечные времена, в честь чего было предпринято сооружение грандиозного памятника его основательнице, Императрице Екатерине II. И в Тамани сооружался памятник Казаку, в честь столетия войска, но никак не двухсотлетия.
Эта «традиция» искажения истории войска продолжается и теперь. Причём, уже не скрывая того, что отмечается старшинство войска, а вовсе не его действительная история. В частности, всероссийская заочная научная конференция в октябре 2011 года «Российское казачество: история, проблемы возрождения и перспективы развития» была посвящена «315-й годовщине официального старшинства Кубанского казачьего войска, установленного 28 марта 1874 г. по старейшему в войске Хопёрскому полку. Хотя годом образования полка является 1767 г., но история воинской славы казаков-хопёрцев связана с их участием в победоносном штурме войсками Петра I турецкой крепости Азов» (Краснодар, «Традиция», 2012 г.). При этом странную логику проявляют историки, отнюдь не историческую: годом образования Хопёрского полка является одна дата, но коль очень хочется, изменяют её на другую. Точнее дату, исторический факт подменяют исторически неопределённой декларацией об «истории воинской славы казаков-хопёрцев», которую «можно» толковать как угодно. Хотя изначально предшествующие историки не выделяли как-то особо хопёрцев из донского казачества, так как для этого не было никаких оснований. К тому же строго говоря, это были уже не хопёрцы, а новохопёрцы. После того, как по велению Петра I, были разрушены хопёрские городки за их поддержку Булавинского бунта, и в 1717 году был основан Новохопёрск, уже с иным составом его жителей. Не говорю уже о том, что годом образования Хопёрского полка был не 1767 год, а 1775 год, что в научных обсуждениях такие неточности недопустимы. В 1774 году это была ещё Хопёрская команда, а в 1775 году Екатериной II был учреждён собственно Хопёрский полк. Да и о «воинской славе казаков-хопёрцев» следует говорить с большой осмотрительностью, так как поддержка ими бунта Кондратия Булавина, а потом, по образовании Хопёрского полка, по сути, нежелание переселяться на Кавказ, куда им высочайше следовать было велено, невозможно объяснить «воинской славой» современными патриотическими декларациями о служении Российскому престолу и Отечеству.
Но что значат свидетельства историков предшествующих для историков нынешних, если они, как видно для того, чтобы не считаться с ними, относятся к ним довольно уничижительно: «С лёгкой руки П.П. Короленко, Ф.А. Щербины, В. А. Потто в дореволюционной историографии было создано немало мифов, которые продолжают бытовать и сегодня». Действительно ли эти историки создали «немало мифов», ещё вопрос, а вот то, что историки нынешние участвуют в новом мифотворчестве далеко небезобидном и даже опасном, очевидно.
Останавливаюсь на этом аспекте истории потому, что это – не досужая игра в даты, но важное духовно-мировоззренческое положение, из которого неизбежно следует определённое и жизненное положение. Ведь не признавая факта переселения верных черноморцев на Кубань первоначальной страницей истории Кубанского казачьего войска, тем самым, Императрица Екатерина II не признаётся создательницей Черноморского, позже Кубанского казачьего войска (даже с сооружением грандиозного памятника ей в Екатеринодаре). А вместе с тем, вольно или невольно отрицается главное – дарование ею земли черноморцам, кубанцам на вечные времена. А упоминание при этом Императора Петра I предполагает, что он якобы был создателем Кубанского казачьего войска, а не Екатерина Великая. А стало быть, рано или поздно может сложиться ситуация, аналогичная той, которая описана в «Повести временных лет», в чудной новелле о «Выборе веры» великим князем Владимиром, Крестителем Руси, с сакраментальным и трагическим вопросом: «А где земля ваша?»… И что мы на него ответим? Сошлёмся на какой-то ведомственный приказ, не имеющий никакой юридической силы? Во всяком случае так было до 2007 года, когда успешно завершилась долгая и сложная дипломатическая акция по возвращению кубанских казачьих регалий из США на родину, в Россию. И главное – возвращение Высочайшей милостивой грамоты о даровании Черноморскому войску земли на вечные времена и определения её границ: «Усердная и ревностная войска Черноморского нам служба доказали, в течении благополучно оконченной с Портою Оттоманскою войны… Мы потому желая воздать заслугам войска Черноморского учреждением всегдашнего их благосостояния и доставлением способов к благополучному пребыванию, всемилостивейше пожаловали оному в вечное владение состоящий в области Таврической остров Финагорию со всею землёю, лежащею на правой стороне реки Кубани от устья ея к устью Лабинскому и Редуту, так, чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой земли, с прочих же сторон разграничение указали мы сделать генерал-губернатору кавказскому и губернаторам екатеринославскому и таврическому через землемеров обще с депутатами от войска Донского и Черноморского».,. Но и с новым обретением Грамоты Екатерины II в аргументации историков ничего не изменилось. То есть, сложилось такое положение, что Грамота, как главный юридический документ, сама по себе, а история войска, абсолютно ей противоречащая, сама по себе… Но так в истинно исторической науке не бывает…
Эта чрезвычайной важности дипломатическая акция по возвращению на родину Высочайшей милостивой Грамоты о даровании земли на вечные времена, как и войсковых регалий, стала возможной благодаря усилиям многих кубанцев. Это – главное. Ведь во все времена основным и определяющим судьбу и историю народов была земля. Это отразилось в русской литературе, начиная со «Слова о полку Игореве»: «О Русская земля, уже ты за (не) шеломянем еси». И это всегда удерживалось в народном самосознании, вплоть до выдающегося поэта, по сути, нашего современника Николая Рубцова: «Бессмертное величие Кремля/ Невыразимо смертными словами/ …И я молюсь – о, русская земля! – /Не на твои забытые иконы,/ Молюсь на лик священного Кремля/, И на его таинственные звоны».
Но не могло не удивлять то, что среди возвращенных регалий не оказалось книг Межигорского монастыря, вообще церковных книг, по которым и устраивалась жизнь на берегах Кубани, хотя увозились регалии в эмиграцию через Екатерино-Лебяжескую Николаевскую пустынь, что при Лебяжьем лимане у станицы Брюховецкой, где эти книги находились. Этот поразительный факт может свидетельствовать только об одном – об общем ослаблении в народе своей исконной веры у всех сословий, у всех противоборствовавших сторон в Гражданскую войну. Да и позже, когда Священное писание перестало восприниматься как единственно спасительным, перестало говорить людям, что оно – не только о прошлом, но и об их нынешней жизни. Собственно, общее ослабление веры в народе и стало основной причиной революционного крушения страны, новой смуты.
Итак, приближалось знаменательное событие в жизни Кубанской области, кубанского казачества, бывшего Черноморского войска – столетие переселения верных черноморцев, бывших запорожцев на берега Кубани. Приближалось столетие с тех пор как Императрица Екатерина II по слёзной просьбе черноморцев даровала им земли на Тамани «с окрестностями оной», как черноморцы, кубанцы обрели, наконец, долгожданную землю, как решилась их судьба и целого края в стратегически важном регионе страны. Приближалось столетие памятного события, когда черноморцы водворились на постоянное местожительство, сменив на охране границы Кубанский армейский корпус генерал-поручика А.В. Суворова.
Не могло тогда быть более важного, более значимого события для области, чем это. И благодарные кубанцы, помня свою судьбу, решили отметить его достойно, во всей его исторической значимости. Причём, начали готовиться к нему заранее, как говорили они, заздалыгоды. Естественно, возникла идея установить памятник Императрице Екатерине II в Екатеринодаре, в городе, носящем её имя.
Впервые эту идею высказал историк, краевед, археолог, внёсший неоценимый вклад в изучение Кубани и формирование самосознания кубанцев Евгений Дмитриевич Фелицын, имя которого носит ныне Историко-археологический музей-заповедник в Краснодаре. Было это в 1888 году, за пять лет до векового жития кубанцев на своей земле. Время, вроде бы, достаточное для того, чтобы этому замыслу и заветному желанию кубанцев осуществиться в свой срок. Однако, всё сложилось иначе. И никто ни тогда, ни теперь, судя по исследованиям историков, объяснить вразумительно не мог и не может, почему, в силу каких причин и обстоятельств всё произошло именно так.
Инициатива Е.Д. Фелицына получила поддержку в войсковом правительстве. К ней благосклонно отнеслась и общественность. Примечательно, что вопреки традиции, средства на памятник не стали собирать по подписке, а решили изыскать их из войсковых сумм. То есть, создание памятника Екатерине Великой, основательнице и благодетельнице кубанского казачества, изначально мыслилось как дело казачье, как дело чести, прежде всего, войска.
Идея кубанцев была одобрена Главным управлением казачьих войск: «Заветное сердечное желание всех кубанцев видеть памятник Императрице Екатерине II в своём городе, носящем имя своей Августейшей основательницы». Как сообщалось в «Памятниках времени», издании военно-исторического отдела при штабе Кавказского военного округа, «среди потомков черноморских казаков и их товарищей казаков линейных давно уже зародилась мысль увековечить память Императрицы Екатерины Великой и соорудить в её честь достойный монумент, дабы тем выразить, хотя бы в слабой степени, всю безграничную признательность и бесконечную сыновнюю любовь к Матери-Царице, как основательнице Кубанского войска, которое обязано ей своим настоящим завидным благосостоянием. Выразителем этой идеи и, вместе с тем, хранителем преданий седой казацкой старины, явилось областное Кубанское правление, принявшее все расходы на сооружение памятника на войсковой капитал, как собранный от тех же безграничных щедрот Императрицы Екатерины» (Тифлис, 1909 г.).
О заветном желании кубанцев отметить столетие войска одним из первых узнал известный художник и скульптор, член Петербургской академии художеств Михаил Осипович Микешин (1836-1896), пользовавшийся славой создателя оригинальных памятников, посвящённых истории Отечества. Он был известен, прежде всего, как автор грандиозного монумента «Тысячелетие России» в Новгороде. Но он создал также памятники Екатерине II в Санкт-Петербурге, в Ирбите, Богдану Хмельницкому в Киеве, адмиралам Н.О. Нахимову, В.А. Корнилову, В.И. Истомину в Севастополе, О.С. Грейсу в Николаеве.
10 января 1890 года он пишет на Кубань обстоятельное письмо, в котором не только выражает своё заинтересованное согласие создать памятник Императрице в Екатеринодаре, к столетию переселения черноморцев на Кубань, но и определяет основной замысел памятника, что это должен быть монумент не только Екатерине, но и казачеству: «Предстоящая возможность тем ещё более лестна для меня, что я волею судеб сделался как бы историческим присяжным увековечивателем памяти этой великой Императрицы, изобразив её прекрасный лик и на памятнике «1000-летие России» в Новгороде, и на грандиозном монументе её имени в С.-Петербурге на Невском проспекте, и в городе Ирбите, а потому осмеливаюсь питать твёрдую надежду удовлетворить всем патриотическим желаниям доблестного кубанского казачества соорудить для него памятник этой государыне. Так, чтобы такой памятник был эпопеей славы основательнице Кубанского казачества и его главного города, а также славы самого казачества».
М.О. Микешин занимал некое особое место в художественном мире. Он был художником, и скульптором стал как бы со стороны. Широкую известность ему принесло, конечно, создание памятника – «Тысячелетие России» для Новгорода. В 1859 году он принял участие в конкурсе и неожиданно для себя и, тем более для профессионалов, победил. Но такое положение скульптора создавало ему массу неудобств, неприятностей и переживаний, вплоть до чисто производственных проблем, когда, скажем, Императорская академия художеств не предоставляла ему мастерских для работ. Даже после смерти скульптора, после создания им последнего памятника для Екатеринодара, по общему мнению, шедевра скульптуры, вице-президент Академии художеств граф И. Толстой писал, что его работы «несомненно, представляют некоторый интерес, особенно ввиду той известности, которою пользовался академик Микешин, художник, хотя и увлекающийся, но обладающий своеобразным талантом». Словно каждый истинный художник обладает не своеобразным талантом… Этот снисходительно-пренебрежительный тон пред тем, что творческий путь скульптора уже завершён и его работы говорят сами за себя, поразителен. Конечно, тут сказывалась обыкновенная зависть. Конечно, досаждала ему во многом привычная чиновническая волокита. Да, было и то, и другое. Но ведь они были замешаны на мировоззренческих понятиях, определялись во многом тем, что мы называем духовно-эстетическими проблемами. Во всяком случае, вряд ли дело было тут в некоем вольнодумстве, которым грешил М.О. Микешин в молодости. Вольнодумство всё-таки предполагает нарушение традиции, в то время как М.О. Микешин оставался в творчестве своём традиционалистом в добром смысле этого слова. Он как бы пытался, проявляя духовный стоицизм, удержать значимость, величие и красоту человека тогда, когда новое время несло его принижение и умаление. Под знаком его освобождения, конечно…
Справедливо писал Валентин Гребенюк, что М.О. Микешин – «один из виднейших русских скульпторов второй половины ХIХ века и, пожалуй, единственный крупный монументалист, автор нескольких известных памятников, созданных в то время, когда скульптура, как искусство, переживала период относительного упадка в связи с развитием так называемого «критического» реализма в живописи. Самой своей природой, скульптура в особенности, мало приспособлена к выражению негативных явлений действительности… Монументальное искусство наоборот, как правило, призвано утверждать и прославлять то, что оно изображает. Наверное, поэтому творческий путь М.О. Микешина и в особенности его посмертная слава, были столь трудными и переменчивыми; при жизни его упорно не признавали царские чиновники от искусства. Он никак не мог отделаться от репутации «левого» художника за революционные увлечения своей юности и, прежде всего, за дружбу с «крамольным» поэтом Т.Г. Шевченко, а после революции его считали чуть ли не апологетом царизма, так как в своих памятниках он изображал русских царей и не мог не делать этого потому, что исполнял оригинальные заказы. Попутно сложилось мнение, что М.О. Микешину, дескать, вообще далеко до мастеров скульптуры прошлых лет, т.е. эпохи классицизма или даже Возрождения, хотя Теофиль Готье назвал однажды Микешина «русским Микеланджело…» («Кубань», февраль, 1992 г.).
Совершенно очевидно, что такая переменчивость славы скульптора была обусловлена вовсе не приверженностью его тому или иному политическому движению, но тем, что он оставался художником тогда, когда художественность, как цельное восприятие мира, размывалась «прогрессивными» поветриями, а в силу преобладающей темы своего творчества, он оставался верен русскому национальному понимаю государственности в то время, когда она незримо подтачивалась…
И конечно же, узнав о заветном желании Кубанского казачьего войска отметить свой столетний юбилей установлением в Екатеринодаре памятника Екатерине II, М.О. Микешин не мог не откликнуться на него со всем жаром своей души и творчески активной личности. Казалось, ничего не предвещало особых затруднений с созданием памятника. Но сложилось всё иначе.
Более поздние исследователи полагали, что задержка с созданием памятника произошла в связи с болезнью и смертью наказного атамана Кубанского казачьего войска Г.А. Леонова. В какой-то мере это, может быть, и так. Но ведь «задержки» с установлением памятника продолжались пятнадцать (!) лет… Да, конечно, сооружение памятника дело вообще не быстрое. Создание памятника Казаку на Тамани тоже тянулось довольно долго. С установлением же памятника в Екатеринодаре были обстоятельства, которые никак не дают себя расценивать только как чиновничью нерасторопность. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что «задержка» с этим памятником была иного характера. Причина задержки прямо не декларировалась, но она, так или иначе, угадывается. И особенно различается теперь, когда прошло время.
И только в конце декабря 1892 года М.О. Микешин приступает к работе над памятником. Наконец-то предложение о сооружении памятника поступило в Главное управление казачьих войск. Летом 1893 года он вылепил первый эскиз модели.
Весной 1893 года областное правление дало разрешение на сооружение памятника, выделив сто пятьдесят тысяч рублей золотом. Идея памятника, воплощённая в высокохудожественных формах, 23 марта 1893 года была всеми одобрена и удостоилась Высочайшего утверждения Государём Императором. Дело приобретало уже обязательный, общегосударственный характер. Казалось, что теперь ему уже ничто не могло помешать.
В октябре 1894 года Городская дума приняла решение об отводе земли, на Крепостной площади, для установления памятника Екатерине II. Видя, что дело с памятником всё же не продвигается, скульптор пытается воздействовать на общественное сознание иными способами. Так в мае 1894 года он передаёт в дар Кубанскому казачьему войску пятьсот экземпляров изображённых и изданных им икон просветителей-славян, братьев Кирилла и Мефодия. Иконы были освящены петербургским митрополитом Исидором и, согласно желанию академика, предназначались для распространения по всем учебным заведениям города и области, а также «в хату той станицы, которая, – как писал скульптор, – примет меня Михайлу Нэчосу, своим соказаком».
Он составляет описание будущего памятника и издаёт его отдельной брошюрой. Так он пытался ускорить сооружение памятника, застопорившееся по непонятным причинам. В одном из писем атаману Я.Д. Маламе, он называет свой памятник злосчастным… Может быть скульптора озадачило то, как на Кубани, в Екатеринодаре был отмечен столетний юбилей переселения черноморцев, столетний юбилей войска, к которому-то и было приурочено сооружение памятника. Событие для области огромной важности, к которому готовились заранее, оказалось… по сути просмотренным… Вряд ли это можно считать каким-то досадным недосмотром или чиновничьим попустительством, ибо мероприятия такого характера организуются и проводятся властью, а не возникают в народе стихийно. В последовательности событий чётко угадывается некая режиссура… В этом нет никакого сомнения. Попытаемся указать на её признаки: «…И много разных иных событий произошло в Екатеринодаре в этом году. Одни в сиюминутности были забыты сразу же и не оставили о себе следа, другие, став «фактом истории», уходили в небытие постепенно, с тем, чтобы когда-нибудь объявиться новому поколению горожан, как находка краеведа или открытие учёного. Но в том круге городской жизни, как ни странно, оказалось на обочине и событие знаменательное, представлявшее в истории города крупную веху, – его 100-летие» («Екатеринодар – Краснодар. Материалы к Летописи». Краснодарское книжное издательство. 1993 г.).
Историк П.П. Короленко в связи с этим писал: «1893 год прошёл почти незамеченным, не оставив после себя памятника истории города. Таким образом, тот труд, который теперь сравнительно легко выполнить, завещается нами потомству. Затеряются, пожалуй, некоторые документы, сойдут со сцены старожилы, и в конце концов придётся догадываться о многом из того, что теперь без труда может быть выяснено».
Да, действительно странно, что главное событие в жизни войска и области, к которому готовились, в связи с чем замыслили сооружение грандиозного памятника, оказалось «на обочине». Тут просматривается очень важная взаимосвязь для понимания смысла случившегося: юбилея «не заметил» город, и это попущение распространилось на всю область. То есть, преобладающей оказалась позиция города, который давно уже считался неказачьим.
Примечательна попытка вскрыть причины такого, действительно странного положения: «Трудно ныне судить о том, почему бывший войсковой град, переживший в 90-е г. ХIХ в. пору расцвета, почти не вспомнил о своём юбилее. Возможно сыграли какую-то роль и обновление его населения после 1867 г. и начавшаяся в это время подготовка к более масштабному торжеству – 200-летию Кубанского казачьего войска». Ведь был изменён статус города – из войскового он становился гражданским, согласно которому, казачье население вытеснялось на периферию… А собственно, почему? Казаки, освоившие край и выстроившие свой город оказались как бы и ни к чему, как своё трудное дело освоения края и защиты его сделавшие…
Но откуда и с какой стати всплыла вдруг, выскочила, как чёрт из табакерки, другая дата – 200-летие войска и действительно ли она являлась «более масштабным торжеством»? В исчисление юбилейной даты войска, именно во время подготовки его к своему 100-летию, как уже сказано, вмешалось военное ведомство. Естественно недоумение краеведа Евгения Хорошенко, справедливо писавшего о такой неожиданной перемене юбилеев: «А местное начальство, по рекомендации военного министра, вместо столетней годовщины переселения на Кубань бывших запорожцев, решило отметить 200-летие Кубанского войска по старшинству от Хопёрского полка, вошедшего в состав Кубанского войска, торжественно заложив фундамент будущего памятника» («Кубанский курьер», 8 апреля 1993 г.). Самое любопытное состоит в том, что речь идёт о фундаменте памятника Екатерине II. То есть, в ходе празднования 200-летия, вместо 100-летия, заложили фундамент памятника Екатерине, отметив это на закладной надписи: «Памятник Екатерине II заложен в городе Екатеринодаре при праздновании 200-летнего юбилея Кубанского казачьего войска, сентября 9 дня 1896 года…». Словно это 200-летие имело какое-то отношение к Императрице.
Но даже военные понимали всю несостоятельность, нелепость и неоправданность такого исчисления истории Кубанского казачьего войска и вытекающей из него подмены одного юбилея другим. В том же издании военно-исторического отдела при штабе Кавказского военного округа «Памятники времени» отмечалось: «Но хопёрские казаки появляются собственно на Кубани лишь с 1825 года и входят в Кубанское войско только как одна из его составных частей; настоящим же корнем его послужила старая Запорожская Сечь, появившаяся на нижней Кубани ещё в царствование Екатерины Второй, в 1792 году под именем верного Черноморского войска. С тех пор черноморцы, свято хранившие заветы старины, жили своею обособленною характерною жизнью вплоть до 1860 года, когда с учреждением на Северном Кавказе Кубанской и Терской областей, к ним были присоединены ещё линейные казачьи полки».
Странно, как могли многоопытные администраторы тогда и нынешние историки теперь, запутаться в исчислении истории войска, если скульптор М.О. Микешин, изучая его историю, сразу же определил очевидный, не подлежащий никакому сомнению факт: «История Кубанского войска начинается с того времени, когда Императрица Екатерина своим самодержавным словом призвала запорожцев к новой жизни».
Противоборство памятников
Таким образом, закладка фундамента памятника Екатерине II при праздновании 200-летия войска дала повод считать, что величественный памятник имеет какое-то отношение к этому надуманному юбилею. Подмена была совершена… Причём, не только в датах, но и в самих памятниках. Столетний юбилей переселения черноморцев, обретение ими земли на вечные времена и 200-летие войска, исчисленное по старшинству от Хопёрского полка, даты столь разнохарактерные и разномасштабные, что даже их простое сопоставление ничем не оправдано. Но государственное оказалось подменённым ведомственным.
Но для того, чтобы совершить эту подмену с датами, надо было «не заметить» столь ожидаемого столетнего юбилея переселения черноморцев на Кубань. Как обыкновенно бывает в подобных случаях, главное оказалось утопленным во второстепенном, отвлекающем внимание от основного. Завязывается мало что значащая дискуссия по какому-нибудь вопросу не дискуссионному. Так было и в нашем случае.
«Забывается» грандиозное событие – столетие войска, но разгорается дискуссия об уточнении дат основания города, хотя понятно, что такое событие не может быть точечным, а стало быть, и спорить собственно не о чём. Но главное состояло в том, что речь идёт уже не о войске, а всего лишь, о городе. А о том, что дату решено отметить установлением грандиозного памятника Екатерине II в этой «дискуссии» и вовсе не упоминается. Так смещаются смыслы, в результате которых получается нечто совсем иное, чем предполагалось. В нашем случае оказались ничем не отмеченными, вовсе проигнорированными столетние юбилеи и войска, и города. И никому, кажется, в голову не приходило, что не может быть одновременно столетия города и двухсотлетия войска, так как это составляющие одного и того же грандиозного события – водворение верных черноморцев на берега Кубани.
16 октября 1893 г. в «Кубанских областных ведомостях» появилась статья Е.Д. Фелицына «По поводу столетия со дня основания города Екатеринодара». Уже не войска, а города. Автор, дискутируя с другими исследователями – И.И. Дмитренко, И. Бентковским, обосновывал свою точку зрения на вопрос о дате основания города. Если И.И. Дмитренко полагал таковой 9 июня 1793 г., когда черноморские казаки, остановившись в Карасунском Куте, приняли решение построить «войсковой град», а И. Бентковский отмечал, что название «Екатеринодар» появилось в официальных бумагах с 1 декабря 1793 г., то, по мнению Е.Д. Фелицына, днём основания города следовало считать 18 сентября 1794 г., когда было произведено его размежевание по плану. Тем не менее, всеми признавалось, что «местность при Карасунском Куте стала заселяться немедленно по прибытию туда черноморцев…». Лишь дискуссии историков ознаменовали столетний юбилей Екатеринодара и войска. Официально эта дата не отмечалась, не было юбилейных изданий.
А причина такой «забывчивости» просматривалась. И состояла она в том, что городу не особенно хотелось чествовать и казачество, и Императрицу Екатерину Великую, не особенно хотелось выпячивать столь очевидный символ русской государственности.
Но поскольку, столетие войска – дата действительно знаменательная и игнорировать её совсем уж было невозможно, то нужен был некий отвлекающий смысловой повод. И он вдруг нашёлся: исчисление истории Кубанского войска по старшинству от Хопёрского полка, видимо, в расчёте на психологическое восприятие – чем длиннее история, тем мол, лучше, хотя этносам так же, как и людям, пристало гордиться своей молодостью, а не старостью. Всё остальное должно быть утоплено в высокопарной патриотической риторике и пышности празднества.
Правда, о памятнике Екатерине II иногда поминалось. Так 15 июля 1895 «Кубанские областные ведомости» сообщали: «Дело о постройке памятника Екатерине II на Крепостной площади подвигается вперёд: модель готова и скоро будет утверждён проект. Идут переговоры с художником М.О. Микешиным по поводу заключения с ним контракта на сооружение памятника. Всё сооружение М.О. Микешин принимает на себя». Хотя, как помним, утверждение модели памятника произошло весной 1893 года…
О справедливости логики моих размышлений свидетельствует и то, что подменой юбилеев не ограничились, но попытались подменить и сами памятники. Городское общество, вроде бы, благодарное казачеству, решило воздвигнуть в честь него другой памятник, не такой, о каком мечтало казачество и уже приступило к его созданию, а обелиск, в связи с его двухсотлетием, хотя городу, основанному казаками, исполнилось только сто лет. Причём, решение это почему-то принималось на чрезвычайном заседании Думы. Как это было, сообщает издание «Памятники времени»: «Самый Екатеринодар пережил уже целое столетие, а потому городское екатеринодарское общество, унаследовавшее город от бывших черноморских казаков, пожелало в знаменательный день юбилея почтить в лице Кубанского войска первых основателей города, первых колонизаторов края и в честь его воздвигнуть в Екатеринодаре памятник, который засвидетельствовал бы потомкам признательность сограждан к боевым подвигам порубежных казаков и ту живую связь, которая испокон веков существовала между русским народом и его передовым казачеством – носителем государственных идей и русской культуры на самых далёких окраинах империи. Мысль эта проведена была на чрезвычайном заседании Думы 6 июля 1896 года городским головою В.С. Климовым, представившим и самый проект памятника, сделанный по рисунку архитектора Филиппова. Предложение было принято единодушно и город постановил тут же ассигновать на памятник пять тысяч (фактически памятник обошёлся городу вдвое дороже)». Странная всё-таки нелогичность, вроде бы, никем не замечаемая: памятник основателям города, свершившим это дело сто лет назад, предлагается отмечать двухсотлетием их войска… И не памятником Екатерине II, а всего лишь обелиском, решение по установлению которого было принято столь спешно. И в то время, когда уже шла работа над памятником Екатерине II…
Сооружение же городского памятника, точнее – обелиска не могло окончиться к самому дню юбилея, назначенному в том же году на 7 сентября, а потому город ограничился в этот день поднесением войску, через особо уполномоченных лиц, только фотографического снимка с модели самого памятника. Странная, конечно, спешка с этим памятником, посвящённым двухсотлетию. Причём, эта дата отмечалась, по сути, дважды – сначала 8-9 сентября 1896 года, потом уже при открытии самого обелиска 7 мая 1897 года. На второй же день празднования состоялась закладка фундамента памятника Екатерине II, но на закладную доску была занесена надпись о «двухсотлетии»… Почему 200-летний юбилей войска назначен был на 7 сентября, неведомо, так как, уж если исчислять историю по азовским походам Петра I, то Азов был взят 19 июля 1696 года…
7 мая 1897 года на пересечении улиц Красной и Новой состоялось открытие обелиска в честь 200-летия Кубанского казачьего войска, созданного по проекту областного архитектора В.А. Филиппова. Надпись на нём гласила: «Кубанскому казачьему войску Екатеринодарское городское общество в ознаменование двухсотлетия войска 8 сентября 1896 года». Это происходило уже без М.О. Микешина. 19 января 1896 года он скончался и был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. О памятнике Екатерине II на какое-то время позабылось. Архитектор Е.Е. Баумгартен, проектировавший памятник, зять М.О. Микешина писал: «Это затянувшееся дело сильно повлияло на впечатлительного и уже сломленного недугом Михаила Осиповича. Готовая восковая модель угрожала разрушением при изменяющейся зимою комнатной температуре. Это обстоятельство вызывало сильные опасения автора, и было доводимо неоднократно до сведения Главного казачьего управления».
Под выплясывание казачка торжествовала иная символика и иная идеология. Что же торжествовало? Памятник городского общества, в честь двухсотлетнего юбилея войска, представляет собой четырёхгранную колонну-обелиск. Такие пирамидки, скорее ставят на могилах, чем в ознаменование знаменательных дат. Примечательно, что в это же время обсуждался памятник в Тамани, на месте высадки первых черноморцев на Кубанский берег, памятник, посвящённый столетию войска. Там тоже предлагался подобный обелиск. Но был отвергнут. Любопытна причина отклонения такого памятника – из-за своей ординарности: «По изложенным приказаниям наказного атамана в областном правлении, был составлен проект памятника, представляющий собою сложенный из камня обелиск… Следов в делах не осталось, но надо думать, что проект памятника, составленный в областном правлении, был признан не удовлетворительным по своей ординарности» (К.П. Гаденко, «Кубанский памятник запорожским казакам». Екатеринодар, 1911 г.).
В конце концов, как известно, там был установили памятник, а не обелиск, хотя на месте высадки более уместным мог быть именно обелиск или памятный знак. Памятники ведь сооружаются в городах. А тут в городе, в областном центре, по случаю столь активно навязываемой и разрекламированной даты и вдруг – простой обелиск, напоминающий скорее надгробие… Видимо, из-за упрощённости и ординарности такого обелиска, его и пришлось столь обильно сопроводить надписями, что для памятника, в общем-то неестественно.
Кроме того, такой ординарный обелиск оказался альтернативно противопоставленным величественному монументу Екатерине II М.О. Микешина, посвящённому столетию Кубанского казачьего войска. Очевидно, что городское общество соорудившее этот обелиск в честь казачества, считало, что для него сойдёт и попроще. Противопоставление же этого обелиска памятнику Екатерине II, наводит на мысль о том, что в результате подмены смыслов государственная и казачья идеи оказались действительно разделёнными, что для российской истории неестественно.
Такая очевидная подмена памятников, смыслов, символов, которая со временем обнажается всё более, тогда, может быть, и не носила характера преднамеренности и умысла, хотя не обошлось, видимо, и без них. Всё происходило, «по убеждению», как говорится, из лучших побуждений, как и бывает обыкновенно в области идеологической. Кроме того, подобные безликие и ещё более упрощённые обелиски, посвящённые 200-летию войска, были воздвигнуты и в некоторых станицах, как, к примеру, в станице Безскорбной, открытый 8 сентября 1896 года. И это при всём при том, что памятник Екатерине II для Екатеринодара был признан шедевром монументального искусства: «Всю свою русскую душу, свой великий талант, всё свое искусство и глубокое знание русской истории и русских типов вложил Микешин в это последнее своё творение (Д.А. Славянский).
Характерно в этом отношении страстное суждение краеведа и педагога К.Т. Живило, в котором чувствуется даже обида, что войску не дают ознаменовать обретение земли, дарованной Императрицей. И хотя краевед говорит в данном случае о таманской церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в его словах чувствуется общий смысл: «Екатеринодар не казачий город, а воздвиг войску колонну за 11000 руб., а мы, потомки запорожцев, разве не можем сберечь церкви, гордости своей? Как будто бы сон нагнал на всё войско в течение 100 лет, захлёбываясь в просонках лишь горилкою. Проснитесь же, славные казаки, и исполните свой долг пред умершими великими своими предками, давшими жизнь и славу войску… Забыто всё, постыдно забыто. Кубанцы не привыкли обсуждать свои вопросы и потому многое позабыли. Будем же надеяться, что после манифеста 17 октября 1905 года войску будет дана возможность обсуждать, как сберечь древнюю церковь и ознаменовать занятие земли, дарованной Императрицей Екатериной Великой, постановкой особого памятника». («Экскурсия на Таманский остров». Анапа, 1909). Как видим, на Кубани изначально шла борьба памятников, что не могло быть случайностью и что выражало определённое духовно-мировоззренческое противоборство.
Эти даты – 100-летие и 200-летие войска, – причём, противопоставленные, прямо-таки ставят в безысходный тупик современных историков. И, не находя в этом ни мотивированности, ни логичности, они считают это неким совпадением. А потому и утверждают, что памятник Екатерине II в Екатеринодаре «стал так же и памятником 200-летней истории кубанского казачества», словно, не помня о том, что он замышлялся и воздвигался к столетию жития черноморцев-кубанцев на своей земле. То есть, пускаются в оправдание распространённого «общественного мнения», не смея подвергнуть его сомнению и что оправдано с точки зрения исторической быть не может (Т.В. Ратушняк, «Кубанское казачество»: три века исторического пути»).
Эти мои сопоставления могли бы показаться праздным домыслом, если бы ситуация с памятником в Краснодаре не повторилась в наши дни, через сто лет, когда Кубань отмечала двухсотлетие переселения черноморцев. Повторилась та же путаница с датами – двухсотлетие-трёхсотлетие, вызывающая недоумение граждан. Был установлен закладной камень на месте памятника Екатерине II с надписью, говорящей о том, что памятник Императрице и казачеству будет восстановлен. Но зато ординарный обелиск городского общества был восстановлен в первую очередь.
И только 8 сентября 2006 года памятник Екатерине II в Краснодаре, воссозданный скульптором Александром Аполлоновым, многие годы работавшим над ним, был наконец-то, открыт. И опять-таки, открыт не к двухсотлетию Кубанского казачества, к которому он безнадёжно запоздал, и, кажется, в большой мере не для кубанцев, а по требованию потомков эмигрантов первой волны, как одно из условий возвращения в Россию регалий Кубанского казачьего войска. Потомков эмигрантов в третьем-четвёртом поколении, уже с трудом говорящих по-русски, а о том, что в действительности происходит в России, зачастую, понятия не имеющих… Вопрос же об истории Кубанского казачьего войска и более ста лет спустя, после того, как писал об этом И. Бентковский, всё ещё остаётся не выясненным «как бы следовало»…
Нельзя не отметить и того факта, что возведение такого обелиска нарушало саму природу памятников. Об этом писал М.О. Микешин: «Публичный памятник только лишь тогда соответствует своей цели, когда он отвечает сложившимся в народе воспоминаниям и передаёт эти воспоминания отдалённому потомству. Поэтому каждый памятник должен представлять собой известную идею, и эта идея должна быть выражена в такой ясной и наглядной форме, которая была бы понятна всем и говорила сердцу и уму людей о великих деяниях, оставивших неизгладимый след своей деятельности в исторической жизни народа».
Но уже тогда зарождалось то пренебрежение к природе памятников, которое проявилось в последующем, и в наше время, когда «борьба с мемориалами в последнее время приняла характер эпидемии» (Игорь Шумейко, «Прочь с корабля современности. Борьба с памятниками шагает по планете», «Литературная газета», № 41, 2017 г.). Аргументация здесь во все времена едина: право творческой свободы и право самовыражения. Но это является непременным условием, но не может быть целью творчества, так как скульптор при этом, пожалуй, неизбежно отступает от народного понимания тех или иных событий. Пример из нашего времени. В Санкт-Петербурге, где есть величественный «Медный всадник», памятник Петру I скульптора Э. Фальконе (1782), как он может соотноситься с карикатурой на Императора Петра I, М. Шемякина? А ведь наш современник воспользовался и правом творческой свободы, и правом самовыражения, но памятника не создал, так как он выразил своё понимание исторической личности, далеко не свободное от идеологических поветрий…
Такая история с историей Кубанского казачьего войска произошла по причине многих обстоятельств, но нет сомнения в том, что главной из них было какое-то изначальное и неистребимое в казачьей среде пренебрежение к «бумажному человеку», то есть грамотному и образованному человеку, в котором виделся только чиновник и бюрократ, а не летописец. Теперь уже ясно, что именно это и погубило казачество. Это – своеобычное и уникальное племя русского народа…
В.Г. Толстов в своей «Истории Хопёрского полка Кубанского казачьего войска (1696-1896)», (Тифлис, 1900, 1901 г.) писал, что «казачество не трубило о своих подвигах, оно больше работало шашкою и винтовкою, нежели пером». Так-то оно так, да только одно другому не мешает и не может быть альтернативно противопоставленным. А в казачьей среде были и действительно образованные и талантливые люди, но они не занимали в ней подобающего места. Не потому ли и столь долгое время спустя, важной исторической проблемой в исследовательской среде всё ещё является то, что уже давно должно быть выяснено: «стремление историков определить корни кубанского (черноморского) казачества, его происхождение, обосновать его самобытность в условиях сословного оформления казачества» (Г.Н. Шевченко, «О некоторых проблемах изучения истории казачества Кубани во второй половине ХIХ – начале ХХ в.», «Кубанское казачество: три века исторического пути», Краснодар, 1996 г.). Иными словами говоря, это является признанием в том, что история казачества вообще, а кубанского в особенности, якобы не поддаётся осмыслению… Не на уровне перечисления фактов, но на уровне метафизическом и саморефлексии.
Упрёк И.Д. Попко не только предшествующим, но и нынешним историкам остаётся всё ещё злободневным и ничем не извинительным: «Но будет ли справедливым пенять на такую непроизводительную растрату исторического материала, винить малограмотных казаков в недостатке заботливости о сохранении письменных памятников, когда в наше просвещённое, как говорим мы, время, немного видно этой заботливости. На кладбища хоть изредка ходим поминать родителей, а другие кладбища, где не прах бренный, а мысль и слово наших предшественников почили – хранилища письменных памятников прожитого времени, оставляем в пренебрежении» («Терские казаки с стародавних времён», С.-Петербург, 1880 г.).
Но теперь совершенно очевидна другая беда. Нельзя сказать, что историки не обращаются к источникам и довольно обширным предшествующим исследованиям. Обращаются, пишут работы, проводят научные конференции, но утратив изначальную духовно-мировоззренческую картину мира, зачастую вычитывают в этом бесценном наследии, под влиянием прежних и нынешних идеологий не то, что в них действительно содержится…
Мне уже не однажды приходилось касаться этой странной истории с историей Кубанского казачьего войска – «Сколько же лет Кубанскому казачеству?» в книге «Возвращение Екатерины» – о создании, разрушении и воссоздании памятника Екатерине II М.О. Микешина в Екатеринодаре-Краснодаре (М., «Ладога-100», 2003 г.); в «Новой газете Кубани», (№ 60, 9-13 августа 2007 г.), в своём авторском литературно-публицистическом альманахе «Солёная Подкова», выпуск третий (М., ООСТ, 2007 г.); в книге «Кубанский лад. Традиционная культура: вчера, сегодня, завтра» (Краснодар, «Традиция», 2014 г.). И что поразительно, за все эти годы не нашлось ни одного историка, который, кроме бесконечных заклинаний – «по старшинству от Хопёрского полка», – привёл бы убедительные исторические аргументы в пользу этого старшинства. Но так в истинно исторической, как и во всякой другой науке, не бывает, где мысль должна циркулировать, как кровь в человеческом организме. Тут же, как видно по всему, корпоративные интересы и преднамеренная заданность оказались сильнее и истинной науки, и действительной заинтересованности историей родного края. Историки, что называется в один голос, без каких-либо доказательств повторяют догмат об исчислении истории Кубанского казачьего войска по старшинству от Хопёрского полка, принимают его как безусловный исторический факт, хотя к тому времени не было ещё ни Хопёрского полка, ни Черноморского войска, ни походов Петра I на Азов, которые были уже позже…
Подобные казусы в исторической науке были, пожалуй, всегда, но они не носили такого тотального характера. Всегда находился смелый, мужественный историк, который несмотря на преобладающее «общественное мнение», высказывал историческую истину. Тем более, что она имеет далеко не формальное значение. А то, что причиной этого становилась именно научная корпоративность, свидетельствует хотя бы такой факт. Известный историк Н.И. Костомаров в своё время откликнулся на книгу образованнейшего человека, генерала, знавшего около семи языков Ивана Деомидовича Попко (1819 – 1893) «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту», вышедшую в Санкт-Пете6рбурге в 1858 году. Её он оценил, как «преимущественно этнографическую», надо полагать, для историка мало что значащую. Не увидел в ней научной формы, то есть, тех стереотипов с какими зачастую пишутся исторические исследования: «Слог книги жив и лёгок, но страдает подчас неуместными притязаниями показать автора человеком учёным, пренебрегающим учёную форму». («Казаки», М., «Чарли», 1995 г.). К такому выводу историк пришёл, видимо, потому, что И.Д. Попко свободно приводит в своём тексте латинские выражения, что для него, полиглота, было естественным. Н.И. Костомаров же увидел в этом намерение автора показать свою учёность, и не более того. И надеялся на появление «другого описания Черноморья, более полного». Между тем, не смотря на многочисленные труды в последующем, книга И.Д. Попко и до сих пор не потеряла своей свежести и остаётся непревзойдённым памятником описания родного края. То есть, историк не смог оценить эту книгу, не потерявшую и сегодня своего очарования. И, кстати, и до сих пор остающуюся по её достоинству не переизданной. Да и как могло быть иначе, если не находя в ней «научной формы», Н.И. Костомаров даже книгу называет неправильно: «Черноморские казаки в военном и гражданском быту». В то время как книга называется «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». И это не просто описка историка, видимо, полагавшего, что коль книга о казаках, то на первом плане должна быть военная сторона их жизни. В то время как И.Д. Попко на первое место ставит «гражданское» обустройство края, то есть, – экономическое, социальное, культурное, духовное, от чего зависит и военное обустройство, но не наоборот.
Историю казачества невозможно рассматривать отдельно, вне общей истории России, так как без истории казачества не вполне понятна и история России. Об этом, по сути, писал И.Д. Попко: «Куда не побегут русские люди, хотя бы и «самодурью» без всякой государственной цели, туда придёт и русское царство». («Терские казаки с стародавних времён», С-Петербург, 1880 г.). Не потому ли столь настойчиво и последовательно искажается история казачества, а Кубанского, как в нашем случае, в особенности.
За этим просматривается стремление свести историю казачества к военной стороне дела, без её цивилизационной составляющей и духовно-мировоззренческой основы. Но как только история казачества становится локальной и исключительно военной, она неизбежно оборачивается сепаратизмом и коллаборационизмом, что подтверждается историей трагического ХХ века. И было это свойственно не только Кубанскому казачьему войску.
Задача истинного историка состоит не в том, чтобы обосновать, «обслужить», во что бы то ни стало, официальную точку зрения или распространённое «общественное мнение», которые могут и не иметь исторического содержания, но в том, чтобы распознать цивилизационные и духовно-мировоззренческие основы истории народа, страны, государства.
Нам могут возразить: что, мол, теперь уточнять историю казачества, когда его в своём традиционном виде не существует уже более века. Да, это так. Но примечательно, что подобный только «тематический» подход к истории, не охватывающий всей её полноты, сохраняется. Выходят же у нас учебники «Военная история России», а не «История России», что само по себе не предполагает рассмотрения других, более важных аспектов жизни народа и страны – духовно-мировоззренческих, коими определяется и собственно «военная история», так как они представляют мотивацию тех или иных событий, а не просто перечисление неподвижных исторических фактов. Всё это и вынуждает более основательно рассмотреть эту странную историю с историей Кубанского казачьего войска.
Подозреваю, что причиной и поводом для таких разночтений первоначальной страницы истории Кубанского казачьего войска, как и исчисления его истории в последующем стал тот факт, что земля была дарована Императрицей Екатериной II на вечные времена именно Черноморскому войску, в последующем Кубанскому. Но за сто лет жития на берегах Кубани состав населения области значительно изменился. Надо было как-то по-новому организовывать жизнь в столь обширном и стратегически важном для России крае. Но это вовсе не требовало и никак не предполагало отрицания дарования земли именно войску. Наоборот – быть благодарным войску за это. Однако, проводимая политика, историческая наука, общественное сознание, как понятно, формулируемые образованной частью общества, пошли именно по этому конфликтному пути.
Не менее важную роль в таком положении сыграло и то, что малороссы, в основном составлявшие Черноморское казачье войско, хотя и были родственным народом, но значительно отличались от давних поселенцев на Кавказе Старой линии, впоследствии Кавказского линейного казачьего войска (1832 г.), составлявшегося во многой мере из донских казаков и где преобладал русский элемент. Это чувствовалось на протяжении всей последующей истории. Даже уже на исходе ХIХ века в черноморцах видели «угрозу стабильности», что выявлял историк О.В. Матвеев в исследовании «Казаки глазами жандармов (по политическим обзорам Кубанской области 1880-х годов)»: «Анализ оперативной информации позволил жандармам выделить развитие самосознания в казачьей среде, прежде всего, в станицах бывшего Черноморского казачьего войска. Угрозу стабильности жандармский офицер увидел в преувеличении казачеством бывших черноморских станиц своей роли в завоевании Западного Кавказа, а также в подчеркивании принадлежности к малороссам. Ротмистр Лосев отмечал в 1890 г. : «Казачье панство – старые офицеры из черноморских казаков – с некоторого времени вдруг вспомнили своё знаменитое происхождение от запорожцев, стали на визитных карточках писать «Павко» вместо Павел, «Грицко» вместо Григорий, с простыми казаками говорить на малорусском наречии и, справляясь с правдой, уверять их, что честь покорения Кавказа принадлежит им, а не сотням тысяч воинов из всех мест Империи… Простое казачество, давно забывшее буйную историю славных предков-запорожцев, начинает мнить себя чем-то отдельным от своей кормилицы остальной России и переполняться хмелем далеко не заслуженного величия». («Российское казачество», Краснодар, «Традиция», 2012 г.). Отметим, что это «казачье панство», впадавшее в обыкновенный сепаратизм, родилось уже не в одном поколении на Кубани, словно забывшее о том, что земля была дарована за верную службу и воинские подвиги именно Черноморского казачьего войска, а не за «буйную историю славных предков-запорожцев»…
Взятие Азова
Мы не подвергаем сомнению само установление старшинства в казачьих войсках, но рассматриваем его именно в Кубанском казачьем войске, вдруг существенно изменившем его истинную историю. И поскольку история Кубанского казачьего войска оказалась не просто связанной с давними азовскими походами Петра I, но определённой ими, мы просто обязаны хотя бы в самых общих чертах представить то, как эти походы понимались изначально историками предшествующих времён.
Донские казаки издавна намеревались взять Азов, этот ключ реки Дона к Азовскому и Чёрному морям. Они, конечно, пробивались протоками к морям, но Азов оставался в этих их походах непреодолимым препятствием: «Казаки, видя такие турецкие предосторожности, учреждения и поступки с ними жестокие, хотя не переставали своими наездами, пренебрегая все их укрепления и заставы, начали помышлять о важнейшем противу того деле. Они вознамерились неотменно всё то уничтожить и опровергнуть, а ни чем иным, как отнять у них самой ключ реки Дона и истребить Азов, и тем себе отворить свободный путь в Азовское море, чтобы впредь в приемлемых своих намерениях ничто не препятствовало» («История или повествование о донских казаках Александра Ригельмана, 1778 года», М., 1846 г.).
Примечательно, что историк Алексей Попов в своей истории о Донском войске, описывал эту грандиозную эпопею взятия Азова в главе, которую так и называл: «Взятие Азова одним войском Донским». Тем самым подчёркивал важное обстоятельство, что взятие Азова происходило без участия верховной московской власти, что это было делом исключительно Донского войска: «Войско Донское, желая избавиться неприятельских турецких частых на них покушений и свободнее на Азовском и Чёрном морях действовать, в 1637 году отправило из Черкаска знатной отряд под Азов с тем, чтобы его взять». («История о Донском войске, сочинённая директором училищ в войске Донском, коллежским советником и кавалером Алексеем Поповым 1812 года в Новочеркасске», в Харькове в Университетской типографии 1814 года).
Об участии хопёрцев в этом грандиозном предприятии историки умалчивали, справедливо считая их частью донского казачества. Но зато А. Ригельман довольно подробно описывает, что взятие Азова было делом донских и запорожских казаков. Часть запорожцев, не желая более мириться с суровым гнётом поляков, решили искать себе счастья в Персии. И отправились туда в количестве четырёх тысяч человек с женами и детьми через землю войска Донского: «Когда поляки найсуровейшим образом поступили с черкасами своими, то есть, с запорожскими казаками… принуждены сего для паки искать себе прибежище в других странах, так что вдруг 4000 человек из храбрейших казаков заключили счастие свое искать в военных действиях и, собравшись с жёнами и с детьми, вознамерили себя представить Персии, которая тогда с турками имела войну. Таким образом перешли они в марте месяце к Дону. Донские казаки, состоящие в 3000 человек, встретились с ними и приняли их весьма приятно; …притом осведомились о их намерении и походе, представили им опасность похода, чрез толь многие народы и сумнение свое, что найдут ли они у персиян то, чего желают, говоря им: «Вы хотите предаться лютости басурманской и сделаться более несчастливыми, нежели благополучными. Может быть, они, примирясь, отдадут ещё вас в руки турецкие. Останьтесь, братия, лучше у нас; мы произведём вам плату, и имеем довольно запасу для ваших семей. На что вам так далеко искать того, чего не знаете, сыщете ль. Вот Азов: будем друг другу верны! Когда возьмём этот город, то будем иметь свободный проход в Азовское и Чёрное море, где в один поход можем столько взять добычи, сколько вы во все кровопролитное сражение у персиян никогда не получите». Запорожцы, посоветовав между собою, и разсудя, что они тут и без дальной езды конечно верную прибыль иметь могут, согласились соединиться с ними». 24 апреля 1637 года донские и запорожские казаки осадили Азов: «После сего на другой неделе, призвавши Бога на помощь, пошли под Азов рекою суднами и берегом сухопутно, и осадили оной 24-го числа». Турки, находившиеся в Азове, «такому предприятию только смеялись». Но «казаки начали тотчас в землю врываться, продолжали день и ночь свою работу».
В уникальном историческом и литературном памятнике «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков», посвящённому самочинному взятию Азова казаками и его героической обороне, говорится о донских и волжких казаках. В речи толмачей, парламентариев басурманских сказано: «Яко львы свирепе в пустынях ведомы, рыкаете казачество донское и волжское…». Оказывается, турки хорошо знали своих извечных противников. Ведь истинными старожилами на Кавказе были именно волжские казаки. Но вольному казачеству было сложно удержаться на Волге и часть их ушла с Ермаком в Сибирь, другая– на Кавказ, на Терек. Было это задолго до переселения на Кавказ Волжского войска (полка).
Оказывала ли московская власть помощь во взятии Азова? Разумеется, оказывала, но в целях дипломатических, не придавая огласке и даже отрицая это. В отношении казаков, она всегда проводила тонкую политику. Если соседние державы жаловались на казаков, из Москвы им сообщали, что казаки не находятся в их подчинении, и вообще это война не России с Портою, а Порты с войском Донским. Так и при взятии казаками Азова в 1637 году, когда турецкий верховный Визирь представлял Москве «великую роспись жалоб», говоря об Азове, что якобы «одни только россияне причиною тому были, что город в казацкие руки достался», «на сие российские послы отвечали, что с великим удивлением о странном и к ним совсем не принадлежащем деле принуждены слышать». Более того, уверяли Визиря, что Государь не только не оказывал помощь казакам, но наоборот старался воспрепятствовать им во взятии Азова: «Его Царское величество дерзостным казакам конечно никакой подпоры не делал, но паче ещё старался тому воспрепятствовать, чего ради и послал своих посланников в Азов, Богдана Луковича и Афанасия Борлова, но по обратном их и бесплодном приезде, ещё туда послан был Михайла Заиков, кой со всеми при нём имеющими людьми на дороге найден убит… А иным образом, когда б Его Величество так крепко своему слову и руки не держался, то не токмо тогда, но и ещё бы ныне, мог казакам в Азов на помощь толь сильно придти, чтобы Порта Оттоманская всею её морскою и сухопутною силою не могла оным городом овладеть. Но доныне ещё ни малейшей помощи им не даёт». (А. Ригельман).
Об этом писал и А. Попов: «Российский двор чрез своих послов засвидетельствовал, что он в сей войне Порты с войском Донским, яко Российскому Государю неподвластным, никакого участия не имеет». Однако, московская власть помогала казакам во взятии Азова. Во всяком случае, когда у казаков при осаде города сделался недостаток в порохе, свинце и припасах разных, они их получали: «Но сделался, наконец, у казаков для той осады великий недостаток в деньгах, порохе, свинце и в запасах разных, из чего востужились, что ни начатого их дела окончить, ни запорожцев содержать стало нечем; токмо сверх чаяния козаки были обрадованы, когда прибыл к ним, в том же апреле месяце, войсковой их атаман, Иван Катаржной с Москвы, и с ним несколько сот верховых донских казаков, притом же прислано было, с дворянином Степаном Чириковым, Царского денежного жалованья, порох и свинец, довольное число».(А. Ригельман).
Итак, 24 апреля 1637 года донские и запорожские казаки осадили Азов. Среди них оказался некто Немчин родом, именем Иван Арадов, знающий подкопные дела, которому велели вести подкоп под самый город, что он и сделал за четыре недели: «Июля в 18 число, в ночи четвёртого часа, казаки, зажегши подкоп города подорвали, и великую часть стен, со всеми бывшими на той части людьми, с снарядом и прочим, во внутрь, и за городом разбросало». Это была удивительная, излюбленная тактика донских казаков брать крепости без всякой осадной артиллерии, делая подкопы, в которые закатывались бочки с порохом, а потом подрывались. Более того, обороняя взятую крепость, они делали подкопы на подступах к ней, не давая значительно превосходящему противнику подойти к городу. Тактика, требовавшая неимоверного труда, но всегда успешная. Настолько, что на печати войска Донского был изображён казак, восседающий на бочке с порохом, как своей спасительнице…
Взявши город, казаки разграбили его, но «сделали тотчас и надлежащее учреждение к содержанию онаго в своей власти, исправили его починкою и привели в оборонительное состояние». Они возобновили в городе древнюю церковь во имя Иоанна Предтечи. И другой храм воздвигли во имя Николая Чудотворца.
Турки, разумеется, не смирились с потерей Азова и предприняли его ужасный штурм: «Потом июня 24-го числа окружили город и с ужасною силою во многих местах наступили… Но казаки подвели так хорошо везде подкопы, что турки нигде без опасения стать и шанцами укрепиться не могли». (А. Ригельман).
Турки, поизрасходовав порох, вынуждены были десять недель стоять без всяких действий. Такая стойкость казаков, их не столь уж многочисленного гарнизона, поразила многих так, что «первое известие о оставлении бесполезной Азовской осады показалось Турецкому, Российскому и Польскому дворам более баснею, нежели истинною повестию, ибо оной город в то время далече не таков крепок был, каков в 1696 году Его Царским величеством Петром Алексеевичем взят». (А. Ригельман).
Но потом турки стали чинить приготовления, чтобы с большой силой предпринять осаду Азова и возвратить город себе. Узнав об этом, казаки решили передать город под власть Российского Государя. Но им в этом было отказано: «Если можно, Его Царского Величества к помощи склонить, обещая себя и с городом в руки Его Величества отдать, и при том предлагая великую пользу, которую Российское государство от сего города иметь может. Но в том им, однако ж, отказано…» (А. Ригельман). Государь «не согласился на представления Донского войска в отправлении ему помощи и в принятии от него Азова» (А. Попов). И тогда «Войско Донское знавши о чрезвычайных приготовлениях к непременному возвращению сего города и не надеясь на помощь даже и Российского двора, приказало своему отряду со всеми потребностями из Азова выбраться, а при появлении неприятеля все башни и укрепления подорвать и городские строения сожечь» (А. Попов). «Казаки, не получа к удержанию Азова вспоможение, оставля оный подорвали и возвратились на Дон» (А. Ригельман). После жесточайшей четырёхмесячной его обороны. Они владели Азовом, стойко обороняя его по 1642 год, то есть, по сути пять лет.
Блестящий публицист и историк генерал И.Д. Попко писал об этом беспрецедентном подвиге казаков: «Совершилось на Дону событие, покрывшее вечной славою удаль вольного казачества: донские казаки, соединившись с запорожскими, без инженеров и осадной артиллерии, овладели сильной турецкой крепостью Азовом и несколько лет отстаивали её против стотысячных армий могущественной Порты Оттоманской. Но, когда руководимая благоразумием Москва не пожелала принять этого завоевания (хотя от Кахетии и Карталинии и не отказывалась), то победителям добровольно покинувшим турецкую крепость, не дешево пришлось платиться за свою удаль, оправдавшую русское присловье: смелость города берёт.
По предписанию от Порты, крымский хан начал сильно теснить донских казаков. Не раз и прежде грозил он согнать их с Дона, а теперь со всей силой налёг на исполнение своей угрозы, из опасения, чтобы важная азовская твердыня, ключ к морю и Крыму, опять не попала в их руки. Осенью 1645 года крымские, азовские, кубанские татары, и темрюкские черкасы (жаны) подступили к Черкасскому городку, передовому и главному оплоту донских казаков… Царь Алексей Михайлович, по прошению донских казаков, послал к ним на выручку дворянина Ждана Кондырева» («Терские казаки с стародавних времён», С-Петербург, 1880).
Это грандиозное событие – взятие донскими и запорожскими казаками самочинно Азова и столь его длительная героическая оборона прочно вошли в народное самосознание, отразившись в историческом и литературном памятнике «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков». Цари и вельможи забыли об этом грандиозном подвиге, заслоняя его своими подвигами, но народ крепко о нём помнил и помнит.
На этой «Повести…», на этом историческом и литературном памятнике следует хотя бы вкратце остановиться, так как это уникальное свидетельство времени, о многом говорящее душе и сердцу русского человека. Ведь в нём представлено то, как непросто собиралась Россия в великую державу, как народная стихия соотносилась с верховной властью. С одной стороны, власть, вроде бы, не признавала казаков на окраинах своими подданными, но тем не менее помогала им. С другой стороны, казачество, несмотря на это, считало себя царскими подданными. А потому на слова турецких толмачей (парламентёров) о том, что от Московского царства им не будет «помощи и выручки» отвечали: мы и без вас «ведаем, какие мы в государстве Московском на Руси люди дорогие и к чему мы там надобны. Черед мы свой сами ведаем». И несмотря ни на что, патетически говорили о царстве Московском: «Государство великое и пространное Московское многолюдное сияет оно посреди всех государств и орд басурманских и эллинских и персидских яко солнце».
В «Повести об азовском осадном сидении донских казаков», пожалуй, впервые определено с такой ясностью место казачества в Российском государстве, объективное, а не декларативное. В ней не только описана жестокая четырёхмесячная турецкая осада Азова, не только военно-стратегическое значение взятия и защиты этого города, но духовный смысл беспрецедентного подвига казаков, Оборону Азова автор рассматривает как борьбу за веру христианскую и за царство Московское.
Повесть представляет собой «роспись», донесение царю Михаилу Фёдоровичу о четырёхмесячной осаде Азова турками в 1641 году, который казаки захватили в 1637 году без ведома царя, с надеждой на то, что он примет город в державу свою: «Просим милости, сидельцы азовские и которые на Дону в городках своих живут, холопей своих, чтобы пожаловал и чтобы велел у нас принять с рук наших ту свою государеву вотчину».
Неимоверной силой подступили турки к Азову, в 256000 человек. В то время как в городе было всего 7367 защитника. 24 приступа выдержали казаки, делая подкопы и уничтожая наступающих. 96 тысяч турок побито было под стенами Азова. И турки вынуждены были снять осаду и отступить от города: «И от такова их к себе зла и ухищренного промыслу, от всяких лютых нужд, и от духу смрадного трупилова отягчали мы все и изнемогли болезнями лютыми осадными. А все в мале дружине уж остались, переменитца некем… А которые остались мы, холопи государевы, и от осады тои, то все переранены, нет у нас человека целого ни единого, кой бы не пролил крови своея в Азове сидючи, за имя Божие и за веру христианскую». Взятие и удержание Азова автор повести рассматривает в общей борьбе за веру христианскую. А потому и вкладывает в уста казаков ответ турецким толмачам, напоминая им о Царьграде. Взятие Азова, по сути, – ответ на взятие турками Царьграда и поругание веры христианской: «А все то мы применяемся к Иерусалиму и Царьграду, лучится нам так взять у вас Царьград. То царство было христианское… Как предки ваши, басурманы, учинили над Царемградом – взяли его взятьем, убили в нём государя, царя храброго Константина благоверного, побили христиан в нем многие тысячи тьмы, обагрили кровию нашею христианскою все пороги церковныя, до конца искоренили всю веру христианскую. Так бы нам над вами учинить нынече с обрасца вашего. Взять бы его Цареград, взятьем из рук ваших». Официальные донесения, с такой степенью эмоциональности и образности, конечно, не писались и не пишутся. Текст его говорит о высокой образованности автора, о знании им древнерусских воинских повестей и фольклора. И стоит лишь удивляться тому, что им был войсковой подьячий, то есть начальник войсковой канцелярии, в прошлом – беглый холоп князя Н.И. Одоевского…
Но царь «пожаловал турского Ибрагима султана царя, велел донским атаманам и казакам Азов град покинуть». Примечательно, что автор представляет это как повеление царя, хотя распоряжение взорвать и оставить Азов азовские сидельцы получили из Черкас, с Дону… А все, кто остался от азовского сидения, – повествует автор, – все изранены и уже старцы увечные, ни к какому бою и промыслу неспособные, а потому и дали обещание постричься в монастыре, приняв образ монашеский: «За него, Государя, станем Бога молить до веку и за его государское благородие. Его то государскою обороною оборонил нас Бог, верою, от таких турецких сил, а не нашим то молодецким мужеством и промыслом… Поднимем мы, грешные: икону Предтечеву да и пойдем с ним, светом, где он нам велит». Есть воля царская, но есть и воля Божия, которая была для них превыше всего. Как видно из «Повести…», автор её потрясён не только героической обороной Азова, но и отказом царя принять из рук казаков эту вотчину свою. По всей видимости, это и стало главной причиной написания этой повести обращённой уже не только к царю, но и к потомкам.
Турецкие толмачи говорили уничижительно азовцам: «Не впрямь ещё вы на Руси богатыри святорусские». И предлагали им льстиво перейти на службу к султану. Стоит только покаяться и султан простит «все ваши казачьи грубости прежние и нынешнее взятие Азова»: Тогда, мол, вы и станете богатырями святорусскими: «Учинит вам, казакам он, государь, в Царьграде у себя покой великий…станет-то ваша казачья слава вечная во все края от востока до запада… станут вас называть во веки все орды басурманские… святорусские богатыри», что не устрашились вы такими малыми людьми против страшных непобедимых сил царя турецкого». На это казаки отвечали: «Мы люди Божии, холопи государя Московского, а се нарицаемся по крещению христианами, как можем служить царю неверному, оставя пресвятой свет свой здешний и будущий? Во тьму идти не хочется». На Царьград у казаков были иные виды – взять его как место поругания веры христианской. Они действительно остались богатырями святорусскими.
Азовские герои гордо и уверенно говорили: «Потечет наша слава молодецкая во веки по всему свету». Потекла ли? Неимоверный подвиг был заслонён азовскими походами Петра I. А установление старшинства по Петровским походам на Азов и вовсе вычеркнуло из истории героическое взятие и оборону Азова задолго до этих царских походов… Помнит ли кто об этом подвиге теперь?
Хотя, как могут помнить наши современники, если теперь и народное самосознание, не говоря уже об истории, находится под постоянной угрозой радикальных искажений. Разумеется, под лозунгом возвращения к традиционным ценностям. И не только извне, но и изнутри нашего общества. Не могу не привести пример из нынешней жизни, связанный с той давней историей. В июне 2025 года в Усть-Лабинске прошёл очередной Всероссийский форум – фестиваль «Быть казаком». Мероприятие масштабное. И хорошо, что проводятся такие форумы. Но если на них главное внимание уделяется форме и игнорируется их содержание, то это будет уже не о народных традициях и не о казачестве, хотя внешне, вроде бы, о них. В самом деле, странно было участникам фестиваля услышать от учёного секретаря Старочеркасского музея унизительное и издевательское объяснение печати Войска Донского, на которой изображён казак на пороховой бочке. Учёный секретарь, не отягчённая познаниями, вполне серьёзно уверяла потомков казаков, что казак сидит на бочке с вином, поскольку, надо полагать, он – пьяница и гуляка. То есть, уверяла потомков казаков в том, какими никчёмными и недотёпистыми были их предки… Но до такой степени искажать свою историю и унижать народ никому не позволительно. И ладно, если бы это делал несведущий обыватель. Но ведь – человек, вроде бы, «учёный». Но если у нас такие «учёные» – это беда, и для общества, и для народа…
То, что это пороховая бочка, а не винная, хорошо было известно не только нашим далёким предкам, но и в последующие времена, вплоть до сегодняшнего дня, что отразилось в присловье «Жить, как на пороховой бочке», «Жизнь на пороховой бочке». То есть, жить в постоянной опасности. Откуда в нашей нынешней речи эта «пороховая бочка»? С тех времён, когда такими пороховыми бочками, не имея осадной артиллерии, казаки подрывали неприятельские крепости, делая подкопы под них.
Как известно, войсковую серебряную печать с надписью «Печать Войска Донского» Пётр I пожаловал донским казакам вместе с грамотой за верную службу в 1704 году. На печати был изображён казак, обнажённый по пояс, сидящий на бочке. В правой руке у него ружьё (фузея), в левой – рог, расширенной частью вниз, перед ним нечто на бочке, в чём А. Ригельман усмотрел чарку («на бочке перед ним стояла чарка»). Разумеется, Император, жаловавший войско, имел ввиду вовсе не бочку с вином, позорящую казака, что усмотрели уже поздние толкователи. Царь же, тем самым, подчеркивал оригинальную и эффективную подрывную тактику казаков. Ведь печать, как и герб, есть символ, выражающий самое главное, характеризующее историческую жизнь и деятельность народа.
В левой руке у казака не рог, тем более перевёрнутый, а натруска, из которой насыпался измельчённый порох в запальную трубку, в которой усмотрели чарку. Натруска вставлялась в запальник и выполняла роль бикфордова шнура, давая возможность казаку, поджигавшему её, успеть выбраться из подкопа наружу. Кроме того, казаки использовали подкопную тактику с пороховыми бочками для защиты своих городков, когда подземные ходы делались далеко в степь и подрывались при приближении неприятеля.
Этот прекрасный образ казака-героя, выработавшего такую тактику борьбы, воплотил в своей работе «Казак на пороховой бочке. (Печать Войска Донского)» один из самых талантливых ныне скульпторов Константин Чернявский (2018 г.).
Основательно изучив исторические источники, он обнаружил, что прообраз такой печати был у донских казаков уже в 1552 году при осаде Казани, в которой они участвовали… Пётр I же только следовал давней традиции. Казак обнажённый не потому, что «пропил» одежду, а потому, что совершать адский труд в подкопах иначе было невозможно. А бочка – не с металлическими обручами, что могло высечь искру от столкновения о камень, а со жгутами. Всё было продумано у казаков.
Тут же на этом казачьем фестивале кубанский диалект называли балачкой, а не балакачкой, как он в действительности называется. Но балачка это украинское слово, обозначающее слух, сплетню. Кубанцы же выработали своё название диалекта – балакачка. И когда организаторам задавали вопрос о том, что есть же словари кубанского диалекта, кстати, там же, на фестивале распространявшиеся, они отвечали: мы об этом знаем, но не все с этим согласны. Разумеется, с этим не согласны невменяемые украинофилы, которых на Кубани, видимо, немало. Но в таком случае это – Казачий фестиваль или антиказачий, если судить не по его красочной форме, и масштабу привлечения его участников, а по сути пропагандируемых на нём идей, понятий и представлений? Представлений, далёких и от истории, и от традиционной народной культуры.
Не могу сказать, что это особенность только этого фестиваля. Это – общая беда, некое недоброе поветрие, уже давно преобладающее в нашем обществе: приоритет формы, лицедейства, имитации, шумихи и успеха, которые не идут впрок, над содержанием и смыслами… Но в таком случае возвращение к традиционным ценностям невозможно… Внешний блеск и нищета содержания, историческая неправда не могут возвратить нас к традиционным ценностям.
В связи с этим если – возникает вопрос, то такого порядка: это делается по незнанию или умышленно? Если по незнанию, то такие необразованные люди не должны заниматься этим. А если умышленно, то тут возникает совсем иная мера ответственности, равная той, какая предъявляется теперь иноагентам… Так же, кстати, как и издателям явно коллаборантской литературы, выдавая её за патриотизм казачества.
И только почти шестьдесят лет спустя после Азовского сидения 1637 – 1642 годов, в 1695–1696 годах, царь Пётр I предпринимает свои походы на Азов: армией и всем войском Донским: «По наступлении весны 1695 года одна армия изо ста тысяч человек пошла под предводительством генерала Шереметева по Днепру… другая из тридцати одной тысячи и сухопутно, и водою всего войска Донского под командою боярина Алексея Семёновича Шеина в присутствии Государя 4 июля осадила Азов…» (А. Попов).
Но взять Азов в тот год не удалось. Осада была отложена на 1696 год. В начале весны всё войско на этот раз состояло из 124193 человек, кроме 3997 матросов. Опять-таки, без какого-либо особого выделения хопёрцев, считавшихся донскими казаками, которые таковыми в действительности и были. По прибытии сухопутной армии, атака на Азов началась 16 мая. И только 17 июня город был окружён со всех сторон.
По повелению Государя 29 июня главнокомандующий А.С. Шеин послал коменданту Азова увещевательное письмо о сдаче Азова с выпуском войск и жителей, куда хотят, с оружием и пожитками. Комендант Азова, не находя ниоткуда себе помощи, приказал выставить знак к переговорам: «Турки в 6 часу дня чрез посылку от себя, город россиянам к сдаче объявили, который с отпуском всего гарнизона, 19 июля отдан… Находившихся там 200 человек турков оборвали казаки, и отправили их в степь в серых кафтанах с мешками, в которые дано было им столько хлеба, чтобы степь перейти, а сами с жёнами и с детьми в оную вошли. Азовский же гарнизон с жёнами и с детьми отпущен был на 18 стругах, под препровождением двух российских галер, до реки Кагальника» (А. Ригельман).
О том же писал и А. Попов, существенно уточняя обстоятельства взятия Азова войсками Петра I: «По выпуске 20 числа турецкого гарнизона 3700, граждан 3900, и жён и детей 2000 на 18 бударах рекою Доном до Кагальника; турецкий комендант, оставшийся в Азове для его сдачи встретил в воротах Монарха с главнокомандующим, чиновниками и войском и став на колени, поднёс на серебряном блюде ключ от города». Как писал полковой историк В.Г. Толстов, «19-го июля турки, в числе более 3-х тысяч, покинули Азов, и русские полки вступили в город».
Ну а потом Пётр I, как и подобает «прогрессивному» монарху, придал этому событию, как сказали бы сегодня, соответствующее информационное обеспечение, как грандиозной военной победы: «Его Величество, царь Пётр Алексеевич, для объявления всему государству своему о счастливой победе над Азовом и о взятии онаго, так же и о храбрых подвигах, при том оказанных малороссийскими и донскими казаками с их начальниками, писал во все места и к Московскому Патриарху Адриану, и тем их прославя, обнародовал». (А. Ригельман). И заметим, опять-таки говорится о подвигах малороссийских и донских казаков и их начальников, но ничего не говорится о казаках хопёрских… Конечно и хопёрцы принимали участие в Азовских походах, тем более, что их городки находились на прямом пути к Азову, но какой-то значительной роли в них играть они не могли, так как ко времени этих походов, то есть «к 1695 году, на Хопре существовали уже несколько казачьих городков и станиц, хотя с незначительным на первых порах народонаселением» (В.Г. Толстов).
Но и это взятие Азова войсками Петра I оказалось не окончательным. Его пришлось вернуть туркам по Прутскому договору: «После передачи туркам Азова, по Прутскому договору, наша южная окраина вновь стала открытою для вторжения в наши пределы кубанских и крымских татар, набеги на Дон, в особенности с 1713 года, сделались более частыми» (В.Г. Толстов). И только в 1774 году по Куйчук-Кайнарджинскому мирному трактату с Турцией Азов и азовское побережье отошли к России, что позволило князю Г.А. Потёмкину приступить к созданию Азово-Моздокской линии – единой непрерывной цепи укреплений, защищающей наши южные рубежи.
Этот малый экскурс в историю в нашем повествовании об истории Кубанского казачьего войска совершенно необходим, так как позволяет уточнять его истинную историю, а также пресечь сторонние попытки хопёрской историографией подменять историографию собственно Кубанского казачьего войска, по сути, попытку кубанцев сделать хопёрцами, что само по себе и странно, и ненаучно, так как недоказуемо никакими историческими фактами.
Сага о Хопёрском полку
Историки, обосновывая старшинство в Кубанском войске по Хопёрскому полку, рассматривают его историю до переселения на Кавказ и историю хопёрцев, точнее было бы сказать, новохопёрцев, уже на Кавказе. Хотя докавказская история хопёрцев к определению истории Кубанского казачьего войска никакого отношения не имеет. И тем не менее в аргументации историков, пожалуй, в равной мере присутствуют как докавказская, так и кавказская история хопёрцев.
Что касается докавказской жизни хопёрцев, то исследователи, писавшие о ней, повторюсь, проявляли, как справедливо отмечал В.А. Колесников, «слабую доказательность их старшинства именно с 1696 года». Об их пребывании на Северо-Западном Кавказе тоже нельзя сказать, что там они занимали некое «особое место» и что им принадлежала «исключительная роль» в освоении края. Да, можно сказать, что они «старожилы» этих мест. Но не единственные, а наравне с другими подразделениями, полками и даже казачьими войсками. И прежде всего Волгжским (Волгским) войском.
Неизбежно встаёт вопрос: «Так что мы берём за основу для выделения хопёрцев вообще, а потом и Хопёрского полка среди других войск, полков и подразделений – их докавказскую историю или же их старожильничество уже на Кавказе? Ответ очевиден, – конечно, за такую основу надо брать их кавказское житие. Но историки продолжали писать об их докавказской истории, порой теряя к ней интерес как не содержащей предмета для исследований. Более того, именно по докавказской их истории определяли старшинство в Кубанском войске, хотя об участии хопёрцев в походах Петра I на Азов и их подвигах там, история умалчивает. Но тогда нельзя не задаться вопросом: как быть с действительно грандиозным подвигом донских и запорожских казаков, где были, видимо, и хопёрцы, задолго до походов Петра I при Азовском осадном сидении 1637-1642 годов? Их действительный подвиг в связи со старшинством по Хопёрскому полку, получается, выпадает из истории. И всего лишь потому, что это были не Петровские походы, а самочинные донских и запорожских казаков, что, как понятно, величия их подвига умалять не может. По исторической справедливости их подвиг не может быть выброшен из истории..
Освоение Северного Кавказа было делом государственным, осуществляемым силами всей Империи, где каждому подразделению и полку отводилась своя роль и задача, считать которую некой заглавной не было никаких оснований. К тому же заселение края не было только и исключительно казачьим. Как писал Ф.А. Щербина, «крестьянская колонизация края велась более успешно, чем казачья». Во всяком случае, участие в ней армейских полков было не менее значительным, чем собственно казачьих. О заселении Северного Кавказа, как общегосударственном деле писал так же и И.Д. Попко, никак не выделяя, при этом хопёрцев, и не видя в них некой особой роли: «По дальнейшему протяжению линии поселились слободско-украинские казаки, переведённые с Хопра в одно время с волгскими и составившие Хопёрский полк, который в круг нашего описания не входит».
Но сначала – всё-таки об истории Хопёрского полка, коль именно он оказался в центре определения истории Кубанского казачьего войска, без достаточно веских на то оснований. Полковой историк есаул В.Г. Толстов отмечал, что «первые весьма неопределённые известия о казаках на реке Хопре относятся к началу ХVII столетия, к первым годам правления Михаила Фёдоровича, когда в Москве узнали, что на Хопре мятежные казаки с атаманом Заруцким «воруют и прямят Маринке и сыну ея». Речь шла о польской авантюристке Марине Мнишек, связанной со Лжедмитрием и последующей антимосковской политикой. А первые официальные источники о хопёрских казаках относятся к 1669 году, когда Стенька Разин принёс повинную и засел за житьё в построенном им Кагальницком городке. Ну и уж совсем хорошо узнали в Москве хопёрцев, о том, что «состав населения их отличался всегда неспокойным и мятежным характером» во время войны со шведами, когда осенью 1707 года на Дону вспыхнул Булавинский бунт, имевший трагические последствия для хопёрских казаков. Безусловно, бунт был спровоцирован царским указом о возвращении из донских казачьих городков беглых, которые приняты в число казаков после 1695 года. Поводом же к такому царскому указу стали жалобы на то, что податей взымать не с кого и в армию стало призывать некого, так как казаки разбегаются. Пётр Алексеевич, по своему обыкновению, и здесь разрешил всё скоро и радикально, не особенно задумываясь о последствиях своего решения.
Как известно, в конце 1707 года на Дон был послан князь Юрий Долгорукий с пехотным полком в две тысячи человек при пятидесяти двух офицерах. Булавин ушёл на Хопёр, где без особых затруднений поднял мятеж в казачьих городках по Хопру, Бузулуку, Донцу и Медведице. Немаловажную роль в бунте сыграло и то, что в это время пятнадцать тысяч лучших казаков находились на «баталиях шведских», а дома оставались, скажем так, менее стойкие от внешних влияний люди.
Двадцать офицеров и до тысячи солдат, прибывших на Дон, погибли от рук бунтовщиков. Был убит и князь Юрий Долгорукий. В марте 1708 года Булавин снова появился на Хопре в Пристанском городке. К нему пристали все двадцать пять городков с 3676 казаками. Затем Булавин взял Черкасы, где был избран мятежниками в войсковые атаманы.
Пётр I двинул на Дон для подавления мятежа до двадцати тысяч регулярных войск под начальством князя Василия Долгорукого, брата убиенного мятежниками Юрия. Царь распорядился «все городки от Пристанского до Бузулука разорить»: «Указом 14 мая 1711 года он приказал городки верховых с Хопра за воровство, за принятие Булавина к себе и за то, что ходили против государевых войск, и жителей свести в низовые станицы, чтобы впредь на то смотря, так воров и бунтовщиков и шпионов принимать было не повадно. В июле 1712 года Пристанский, Беляевский и Григорьевский хопёрские городки, после выселения из них жителей, были разорены и принадлежащие им земли присоединены к Воронежской провинции» (Ф.А. Щербина. «История Кубанского казачьего войска», Екатеринодар, 1910, 1913).
Более семи тысяч казаков было казнено и побито. По указу царя на месте Пристанского городка позже была построена Новохопёрская крепость с земляными валами и внешним рвом. Азовский генерал-губернатор Апраксин в ведении которого находилась Воронежская губерния, объявил о вызове к Новохопёрску вольных черкас, посадских людей и вообще казаков и начал их приём с 1717 года. В Новохопёрский гарнизон записалось 219 охотников из донских казаков, которые стали зваться новохопёрскими казаками. Это была Хопёрская команда, которая шестьдесят лет спустя преобразована в Хопёрский полк.
После столь жестокого царского наказания хопёрский край оставался малолюдным. По переписи уже 1771 года в Новохопёрске было всего 247 казаков команды и отставных. И в четырёх слободах проживало ещё 1215 человек мужского пола, некоторые из которых наряжались на охрану крепости, а остальные никакой службы не несли. В связи с переписью и не зная её причины, новохопёрцы заволновались, полагая, что всех, кто не служит, могут зачислить в подушной оклад или отдать в солдаты. И тогда начались хлопоты по созданию Хопёрского казачьего полка.
Сначала думали действовать через коменданта Новохопёрской крепости полковника Подлецкого, но казаки не доверяли ему, не любили его и подозревали что он не даст делу ход. И тогда они, сговорившись, выбрали из среды своей казака слободы Пыховки Петра Подцвирова и доверенных лиц. Поздней осенью 1772 года эта делегация прибыла в Петербург и подала в Военную коллегию прошение на Высочайшее имя. Новохопёрцы просили учредить пятисотенный казачий полк, а также, в подушной оклад их не класть и возвратить исстари принадлежавшие им земли и разные угодья. Избранные жаловались также на Подлецкого, что он обременяет их неуказанною службой, употребляет на казённые и частные работы бесплатно и поступает с ними несправедливо.
Подлецкий попытался было отдать Подцвирова под суд, якобы за самовольную отлучку от команды, но казаки отстояли его. А Подлецкий вынужден был оставить свою должность, так как высшее начальство не признало Подцвирова виновным. 6 октября 1774 года Военная коллегия ходатайствовала о сформировании из новохопёрских казаков пятисотенного полка. По ордеру графа Г.А. Потёмкина от 24 сентября 1775 года за № 1524 командиром Хопёрского полка был назначен армии премьер-майор и войска Донского полковник Устинов, который и приступил к его формированию.
Надо сказать, что несколько ранее, в июле 1774 года президент Военной коллегии генерал-аншеф Григорий Александрович Потёмкин был назначен Новороссийским, Астраханским и Азовским генерал-губернатором и начальником всей лёгкой кавалерии, в том числе Моздокского, Хоперского (ещё не существующего), Чугуевского и Тобольского казачьих полков и Донского, Волжского, Астраханского, Оренбургского, Яицкого казачьих войск. Таким образом, всё дело обустройства и обороны наших южных рубежей сосредоточилось в его деятельных руках. И поскольку до этого наша граница на Кавказе тянулась по Тереку от Каспийского моря до устья реки Малки, на всём протяжении заселённая станицами кизлярских, гребенских, терских и моздокских казаков с укреплёнными пунктами Кизляром и Моздоком, теперь, когда к России отошли берега Азовского моря, князь Г.А. Потёмкин замыслил продолжить линию от Моздока к Дону, то есть, создать Азово-Моздокскую укреплённую линию, поселив там хопёрских и волжских казаков. Но не только казаками мыслилось укрепление этой линии. На Кавказ был вызван генерал-поручик Александр Васильевич Суворов. Он принял командование Кавказским корпусом. В зиму 1777 года и в 1778 году при помощи трёх тысяч рабочих с Дона линия была укреплена редутами и фельдшанцами от Азова до Тамани, а оттуда вверх по Кубани до нынешней станицы Кавказской.
Г.А. Потёмкин сделал доклад Императрице относительно заселения хопёрцами и волжскими казаками Азово-Моздокской линии. Государыня утвердила его доклад, начертав на нём собственноручно 24 апреля 1777 года: «Быть по сему». Хопёрскому полку предстояло переселение на Кавказ, где он поступал в распоряжение генерал-майора Якоби, астраханского губернатора: «Летом 1778 года на новую линию с Хопра прибыла первая партия казачьих семейств со всем имуществом и распределилась на житье в оконченных постройкою станицах при Ставропольской и Северной крепостях… Наконец, летом 1780 года с Хопра перешли на новую линию все остававшиеся там казаки, женщины и малолетки, и в феврале 1781 года весь Хопёрский полк окончательно водворился и устроился на Азово-Моздокской линии в своих станицах при Северной, Ставропольской и Донской крепостях в каждой по 140 семейств» (В.Г. Толстов). Так началась кавказская жизнь хопёрцев, кстати, не менее буйная, чем была на Хопре, что историк полка описал довольно подробно.
Опять-таки, не могу не соотнести титанический труд наших великих предшественников по обустройству Новороссии, присоединению Крыма, освоению Кавказа, укреплению наших южных рубежей с тем, как мы сегодня понимаем и расцениваем их подвиг. Того же князя А.А. Потёмкина, который и был всем этим занят, – от замыслов до воплощения. Александр Разумихин в историческом эссе «Судьбе было угодно» («Наш современник», № 6, 2025 г.) пишет о князе : «Хотя все титулы, звания и даже деяния можно было бы свести к одной всеобъемлющей формуле: фаворит и даже морганатический супруг Екатерины II». Автор «постельного» исторического эссе, видимо, полагая, что он уличает князя в протекции ему со стороны Императрицы, уничижительно пишет о нём, как он благодаря этому, за десять лет от подпоручика дорос до подполковника: «А дальше пошло-поехало. Буквально через десять лет подпоручик уже подполковник». Но десять лет, а не «всего десять» – это нормальное чинопроизводство без всякой протекции. Но, разумеется, при ревностной службе. Ах да, потом Екатерина II пожаловала ему колоссальные земельные владения в Крыму, именным указом пожаловала титул Таврического, возвела в генерал-фельдмаршалы. «И ведь было за что даже забыв про его фаворитство», – пишет автор эссе. Но фаворитство его не забывает, оставляя в качестве «всеобъемлющей формулы» даже в оценке «деяний» его.
Ну сыграл решающую роль в присоединении Крыма; ну основал города Екатеринослав, Херсон, Севастополь, Николаев; ну заложил основы и начал строительство Кавказской кордонной линии. Но ведь всё равно фаворит… Невольно задаёшься вопросом: как могли наши выдающиеся предшественники сочетать и «любовные похождения», и великие дела? У толкователей же их жизни на первом плане – «любовные похождения», а дела так себе, потом, как мало что значащее. А есть ли «дела», у тех, кто сегодня тотально на виду, благодаря лукавству средств массовой информации, то чаще – одни «похождения» или мошенничество всех видов. С такими ли исключительно «постельными» представлениями о жизни человеческой судить о великих людях, плодами деятельности которых мы сегодня пользуемся?..
Откликаясь на историю полка В.Г. Толстова, П. Юдин писал, что «Хопёрцы не составляли самостоятельной единицы, не были ни Войском, ни полком, а всецело входили в состав Войска Донского, как и прочие казаки Бузулукские, Медведицкие, Урюпинские и т.д., именовавшиеся по тем урочищам, где они имели свои постоянные становища». Они стали полком в 1775 году и сразу же началось их водворение на Кавказ. Собственно, для этого полк по замыслу Г.А. Потемкина, и создавался. Но тут оказалось, что хопёрцы, столь настойчиво добивавшиеся создания пятисотенного казачьего полка, следовать на Кавказ не особенно хотели. В связи с этим П. Юдин писал: «Описывая переселения казаков на Кавказ, автор не коснулся очень важных и интересных эпизодов – возникновения среди хопёрцев волнения, побегов некоторых из них, наказания и крутые расправы с ними их первого командира полка Устинова, этого изверга рода человеческого и кровопийцы казачьего, которого, однако, Г. Толстов рекомендует, как заботливого начальника. Нет сомнения, что ему эти сведения не были известны, так как он пользовался документами, извлечёнными Дмитренкой из Московского архива иностранных дел, тогда как указываемые мною материалы хранятся в Астраханском архиве».
Всё это к тому, что докавказская жизнь хопёрцев не отличалась какими-то воинскими подвигами, в том числе и в Петровских походах на Азов. И уж тем более, нельзя её назвать служением престолу и Отечеству. Не назовешь же их, по сути, поголовное участие в Булавинском бунте таким высокопарным служением. С 1777 года возможность такого служения на Кавказе, вновь созданному Хопёрскому полку, предоставлялась. Наряду с другими полками, переселявшихся туда и создаваемых там имперской властью.
Как уже видели, установление и настойчиво навязываемое старшинство в Кубанском казачьем войске по Хопёрскому полку действительно ставило историков в двусмысленное положение. Излагая историю Кубанского войска, они не могли, вместе с тем, не пускаться в давнюю историю хопёрцев, ещё до создания Хопёрского полка, никакой преемственностью с кубанцами не связанной, так как к тому времени официально было провозглашено 200-летие Кубанского казачьего войска, которому исполнялось 100 лет. Не избежал этого и такой известный и основательный историк как П.П. Короленко. Но, в конце концов, он развенчивает миф о старшинстве хопёрцев и подчёркивает заслуги и соответственно и большие претензии на первенство в Кубанском войске черноморцев: «Главный вывод, к которому приходит П.П. Короленко, это отсутствие преемственности основателей Новохопёрской крепости с прежними (до 1708 г.) поселенцами Хопра, поскольку те, кто стал причисляться к ним в 1717 г. и в последующие годы, являли собой выходцев из соседней Тамбовшины, черкасов и посадских людей» (В.А. Колесников). Но в таком случае 1696 год здесь вообще не при чём, как не имеющий никакого отношения к кубанцам. Историк в нём возобладал над иными соображениями и внешними влияниями, что удавалось далеко не многим исследователям как в прошлом, так и теперь.
.
Как кубанцы хопёрцами не стали…
После того, как с 1774 года Азов, несколько опорных пунктов на Керченском проливе, азовское побережье отошли к России, возникла необходимость связать Азов с нашими поселениями на Тереке непрерывной линией крепостей с водворением на ней казаков. В апреле 1777 года князь Г.А. Потёмкин представил Императрице Екатерине II всеподданнейший доклад об учреждении Азовской линии и переселении туда Волгского казачьего войска, половина которого семью годами ранее, ещё в 1770 году переведена была на Терек и образовала собою Моздокский полк. При этом Волжкий полк был почему-то переименован в Моздокский: «В 1769 году волжские казаки были переведены на Терек под именем Моздокского полка» (В.А. Потто).
Доклад Г.А. Потёмкина Императрице так и назывался: «Всеподданнейший доклад князя Г.А. Потёмкина об учреждении Азовской линии и переселении на Северный Кавказ Волгского и Хопёрского казачьих войск в 1777 году». Полки планировалось переселить одновременно, но главную надежду Г.А. Потёмкин возлагал именно на Волжкий полк, так как Хопёрский ещё только формировался. Сам Г.А. Потёмкин отмечал, что «переселение Волжкого войска на Терек главнейшим стало быть для меня упражнением». И далее – именно Волжскому полку, называемом порой войском, он придавал первостепенное значение в создаваемою им Азово-Моздокской кордонной линии: «Назначенным к переселению на ту линию Волжкому войску, о котором уже и удостоился я в прошлом, 1776 году, получить Высочайший указ, так же Хопёрскому полку донских станиц, и следовательно, в ненужном месте расположенному, указать перейти туда наступающею весною».
Князь Г.А. Потёмкин и создавал-то Хопёрский полк для его службы на Кавказе, а потому и отмечал, что этому полку «в ненужном месте расположенному», следовало идти на Кавказ. Ведь крепость Кизляр, построенная в 1735 году, и Моздок – в 1763 году были главными опорными пунктами Моздокско-Кизлярской линии. Но огромное пространство нашей степной границы между Тереком и Азовом оставалось незаселённым. Без учёта этого стратегического плана князя Г.А. Потёмкина не вполне понятна история отдельно взятых того или иного участка линии, того или иного полка: «Екатерина приказала перевести на Терек ещё часть волжких казаков, живших около Дубровки, и поселить их под именем Моздокского полка между самой крепостью и гребенскими городками. Казаки прибыли с Волги в 1769 году и были водворены на Тереке в станицах Галюгаевской, Наурской, Ищерской, Мекенской и Калиновской своим походным атаманом полковником, впоследствии генералом Савельевым, имя которого в своё время было так популярно между казаками, что сады в Наурской станице и поныне называются ещё Савельевскими» (В.А. Потто, «Кавказская линия», Ставрополь, издательство «Кавказский край, 1994 г., т.1).
Интересно было бы знать, почему Волжский полк при переселении на Кавказ был переименован в Моздокский. Хопёрский полк не был переименован. Хотя по этой логике (по месту дислокации) он мог быть переименован, скажем в Ставропольский…
Не буду напоминать долгую историю заселения Кавказской линии от Изрядного источника, пограничного поста с Черноморским войском до впадения Терека в Каспийское море, заселения полками, как туда прибывающими, так и там создаваемыми верховной московской властью. Касаюсь истории лишь тех полков, которые отвечают на вопрос об истории кубанского казачества.
Надо иметь ввиду, что положение Черномории изначально определялось тем, что с переселением Черноморского войска на Кубань, оно составило особую административно-территориальную единицу – землю Черноморского войска, так как было связано с политикой в отношении Крыма: «Кавказская проблема занимала подчинённое положение в решении Крымского вопроса, то после присоединения Крыма она приобрела самостоятельное значение» (В.Н. Ратушняк, «Очерки истории Кубани», Краснодар, «Советская Кубань», 1996 г.). И подчинялось войско сначала таврическому губернатору. В.А. Потто с некоторым удивлением писал о том, что «Черноморское войско странным образом подчинено было не начальникам Кавказской линии, а Херсонскому генерал-губернатору и составляло подобно Грузии, особый центр борьбы с горцами до самых времён Ермолова, когда и линия, и Грузия, и Черноморское войско соединились в единстве действий». («Два века Терского казачества (1577-1801)». Владикавказ, 1912, Ставрополь, 1991). Но и позже оно представляло собой отдельную административную единицу, не входя в состав Кавказской линии – Кубанскую область. Такое положение Кубани сохранялось и в последующем. А потому и рассматривать историю Кубанского казачьего войска всецело через истории Кавказской линии мягко говоря, не совсем оправдано.
И уж если определять старшинство, то логичнее было бы определять его в Линейном войске, где и находился Хопёрский полк, но не в Черноморском войске, куда он прибыл уже позже. И то справедливее и исторически более точно было бы определять его по волжким казакам, действительно старожилам этого края. Ведь сюда русские люди начали проникать с Волги ещё во времена первого русского царя Ивана IV Васильевича Грозного, который первым «жаловал» казаков, используя их во всех военно-политических акциях и оказывая им помощь в борьбе с врагами. Справедливо писал И.Д. Попко, что «знакомство русских людей с Тереком началось ещё в ХIV веке. Первые проникали сюда варяжским обычаем…». Как отмечалось историками уже нашего времени, «на Волге, где постоянно передвигались правительственные войска, рано возникли укреплённые города, вольному казачеству было трудно удержаться. Часть волжких казаков ушла в Сибирь с Ермаком, остальные переселились к 1610 г. на Дон, Терек, Яик» (Ю.Г. Аверьянов, «Казаки России», Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Москва, 1993 г.).
Уходили в недосягаемые места, в том числе и организованно, о чём писал И.Д. Попко: «Во второй половине ХVI века казаки эти, подбитые коноводами ушкуйниками, поднялись большой станицей (отрядом), посадились в струги с семьями и животными и выплыли весенним половодьем в Дон, откуда по Камышинке переволоклись на Волгу и пустились не незнаемым, конечно, путём к недосягаемому никакой московской погоней убежищу – устьям Терека».
Что же касается уже более позднего собственно Волжского полка (или войска), то он переселился с Волги на Кавказ ранее Хопёрского полка, в 1770 году, а окончательно – в 1777 году под именем Моздокского полка. Всё это свидетельствует о том, что старшинство в Линейном войске следовало бы определять именно по Волжкому полку, который вошёл в его состав в 1832 году. Но не в Черноморском же войске, так как хопёрская история в его предшествующей истории просто не присутствует. Об этом убедительно хотя и деликатно писал Ф.А. Щербина: «Так как хопёрцы вышли на р. Хопёр раньше, чем были разрушены две Запорожские Сечи – одна в 1709 и другая, последняя в 1775 году, то на этом основании хопёрцев надо считать старшею ветвью запорожцев, а черноморцев младшею. Но это едва ли так. Черноморцы в полном составе были раньше и запорожцами. Одно войско стало другим с изменением наименования. Во время же зарождения хопёрского войска запорожцы были в меньшинстве в рядах выходцев из Слободской Украины, а хопёрские выходцы в свою очередь составляли только незначительную часть донского казачества» («История Кубанского казачьего войска», Екатеринодар, 1910, 1913). Вот откуда исторически следует старшинство в Черноморском, Кубанском войске – от запорожцев, но никак не от Хопёрского полка, тем более, что по выражению историка «старолинейцы составляли не казачье войско, а только полки». Кубанское же войско полковой организации не знало. И вообще, как считал историк, «хопёрцы – собирательное имя разного казачества, за разные времена и в разных местах. Хопёрцы никогда не составляли казачьего войска, с войсковою организацией и управлением». В таком случае, было вообще странным определять старшинство в казачьем войске по полку, который был казачьим лишь по наименованию…
Надо отметить, что уже при самом заселении Черномории и организации кордонной пограничной службы начало было складываться управление по примеру армейского, когда селениями командовали кордонные старшины. Это обернулось злоупотреблениями. Старшины начали нагружать селения разными хозяйственно-бытовыми заданиями, что не могло не вызвать возмущение казаков. И тогда атаман З.А. Чепега 19 ноября 1793 года удаляет кордонных старшин от командования селениями и даёт указание избирать в них атаманов (Алексей Ларкин, «Ольгинский кордон», Краснодар, «Традиция», 2020 г.). Таким образом было восстановлено именно казачье управление.
Сказалось это и позже. А.П. Ермолов, стремившийся к единому управлению линией, в конце концов вернул в курени атаманов. Даже тогда, когда в 1820 году Черноморское войско изъяли из подчинения таврическому начальству и, вроде бы, передали под командование Отдельного Кавказского корпуса, оно не переставало быть самостоятельным войском, со своей системой защиты кордонной линии, отличающейся от системы линейного войска. Это охватывало все стороны жизни черноморцев: «Различны были также и отношения черноморских и линейных казаков к горцам. Черноморец был миролюбивее по натуре и относился к врагу легче и гуманнее, чем линеец» (А.В. Ларкин). Хотя, заметим, это было продиктовано не «натурой» людей, а скорее, самим характером и особенностями организации их службы.
В конечном счёте всё ведь определялось самим характером кавказской войны, которая существенно отличалась от иных войн, которые приходилось вести России. Это хорошо понимали наиболее проницательные люди, к сожалению, не многие, такие как выдающийся военачальник генерал-лейтенант Алексей Александрович Вельяминов. Штаб его находился в Ольгинском укреплении, откуда он предпринимал первые походы в Закубанье на Черноморское побережье. Отсюда началось строительство в 1832 году Геленджикской кордонной линии. Здесь вырабатывались стратегия и тактика Кавказской войны, которые смутно понимались высшим руководством в Петербурге, в обществе и даже в военной среде. А.А. Вельяминов исходил из того, о чём он сам писал, что «Кавказ можно уподобить сильной крепости. Одна только безрассудность может предпринять эскападу против такой крепости». А потому он предлагал политику медленного продвижения и бесповоротного обустройства территорий, обживая их казаками. И, кстати, – совместно с горцами. Петербург же требовал от него карательных экспедиций для наказания горцев. «Но сим средством, – как он писал, – нельзя достигнуть покорения горцев». Он отлично понимал, что речь не может идти о капитуляции горских народов, чего от него требовал Петербург, а «речь могла идти только лишь о тонко разработанном компромиссе» (Яков Гордин, «Кавказ: земля и кровь», Санкт-Петербург», 2000 г.). Он даже избегал выражения покорение горцев, а говорил – «устроить их благосостояние».
Невозможно ведь объективно и честно объяснить всю сложность Кавказской войны, если политику России, согласно марксистской догматике с изрядной долей русофобии признавать «великодержавно-шовинистической», а горских народов – «национально-освободительной». Постарались на этом поприще и наши революционные демократы, о чём убедительно писал В.В. Декоев: «Такая тенденция была особенно характерна для революционных демократов (Н.Г. Чернышевского, Н.А Добролюбова, А.И. Герцена). Представители антисамодержавной политической мысли, они рассматривали Кавказскую войну в едином контексте социально-освободительных и антиколониальных движений против русского царизма». («Проблемы Кавказской войны ХIХ в.: исторические итоги; «Сборник русского исторического общества. Россия и Северный Кавказ», том 2 (150), М.; «Русская панорама», 2000). В том-то и дело, что причины этой войны крылись не только в стремлении России на Кавказ и к южным морям, но и в горских народах, силою исторических обстоятельств (малоземелье), поставленных в такое положение, что набеги и грабежи соседей были для них неотъемлемой статьёй дохода… Но как видим, объективное понимание Кавказской войны вырабатывалось сложно и многие десятилетия спустя…
За многие годы изучения истории и культуры кубанского казачества мне встретилась, пожалуй, только одна действительно аналитическая работа по историографии Хопёрского казачьего полка, реальная проблематика в которой оказалась не утопленной в красивых декларациях о казацкой славе и о служении престолу и Отечеству. И то статья не кубанского исследователя, а историка из Ставрополя – В.А. Колесникова: «Историография Хопёрского казачьего полка: от генерала И.Л. Дебу до отставного хорунжего П.Л. Юдина» («Кубанский сборник», № 1, 2006 г., научный редактор, составитель О.В. Матвеев). В ней автор даёт историю возникновения старшинства и, по сути, несостоятельность исчисления истории Кубанского казачьего войска по такому старшинству, так как это перекрывало пути постижения его действительной истории. Иными словами, историки всецело ограничивались реально-бытовой стороной дела, не касаясь духовно-мировоззренческой сферы, в которой-то и находится истинное постижение истории. А потому из таких работ не складывалась общая цельная картина заселения Северного Кавказа согласно проводимой политике имперской властью. Но главное состояло в том, что такое назначение старшинства в Кубанском войске понуждало исследователей заниматься историей хопёрцев, а не кубанцев, как аксиому повторяя догмат о том, что они – старейшие в Кубанском войске.
По сути, историк В.А. Колесников уже проделал ту работу, которую я намеревался делать и ответил на те вопросы об истории Кубанского войска, которыми я задавался. И я благодарен ему за это, так как его работа оказалась действительно аналитической и в полном смысле слова научной не только по форме, но и по содержанию, по существу рассматриваемой проблемы.
Эту главнейшую особенность организации Кавказской линии отмечал и В.Г. Толстов: «Кавказские казачьи полки, кроме Черноморского войска, жили совершенно самостоятельною жизнью, управлялись сами по себе… Мысль о соединении в одно целое всех казачьих полков и войск на Кавказе возникла давно в высших правительственных сферах» (В.Г. Толстов). Но соединение отдельных полков в единое казачье войско, как и соединение всех подразделений на Кавказе под единое управление не удавалось, хотя такое намерение было и попытки предпринимались: «В 1824 году генерал Ермолов снова поднял этот вопрос и даже представил подробный доклад о соединении кавказских казачьих полков в одно войско, но из этого опять ничего не вышло. Только в 1832 году все отдельные казачьи полки, кроме Черноморского, были соединены в одно целое войско под названием Кавказского линейного казачьего войска» (В.Г. Толстов). Но даже с образованием этого войска его трудно было назвать в полном смысле казачьим, так как оно имело полковую организацию и существовало по войсковому положению.
Показательно, что В.А. Колесников обозревал, видимо, по неистребимой «традиции», историографию именно Хопёрского полка, хотя писал о Кубанском казачьем войске. Или иначе уже и невозможно было говорить об истории Кубанского войска, так как эта недобрая «традиция» свелась к тому, что история Кубанского казачьего войска оказалась подменённой старшинством его по Хопёрскому полку, а, по сути, историей этого полка, причём, без всякого анализа того, действительно ли это так. Историк В.А. Колесников избежал этой «традиции», представив подробную историографию. А потому он имел полное право на довольно жёсткий упрёк предшествующим историкам в «низкой в тот период саморефлексии кубанского казачества, из рядов которого происходили и сами местные исследователи, … полученную ими от старшего поколения определённую заданность в виде летописей сплошных походов, сражений и героических поступков того или иного подразделения они, за редким исключением (П.Л. Юдин), так и не смогли преодолеть». Историк, по сути, упрекал предшествующих исследователей в том, что, приводя факты, они не осмысливали их в общей истории народа и страны.
Но ещё большее право он имел на упрёк современным историкам: «Осмысливая почти 15-летний период активных исследовательских усилий, направленных на изучение малопопулярной в советской региональной науке казачьей истории Кубани, можно констатировать, что современная генерация «казаковедов» логически завершают начинания своих предшественников ХIХ – начала ХХ в.в. В новейших статьях и монографиях всестороннему рассмотрению подверглось участие Черноморского и Линейного казачества в Кавказской войне, уточнены и по-новому оценены сюжеты, связанные с формированием полков, устройством кордонных линий, действия казаков во внешних военных компаниях империи, но в то же время гораздо меньше удаляется аналитической стороне кавказоведения». То есть, не уделяется внимания самому смыслу происходившего. И историческая наука о казачестве оказалась в каком-то хроническом ступоре, без какого-либо её развития.
В.А. Колесников обратился к первоисточникам, изначальным справочникам, таким как «Словарь географический Российского государства, описывающий азбучным порядком, собранный Афанасием Щекатовым» (М., 1808 г.). И, кажется, с некоторым удивлением отмечал: «Показательно, что в разделе «Казаки» данный словарь не упоминает хопёрцев, как таковых, видимо, по причине их малочисленности и относительно недавнего периода существования полка». Или – к такому основательному изданию, как «Статистическое описание Российской империи в нынешнем её состоянии…» (С.-Петербург, 1808 г.): «Сведения, помещённые профессором географии и статистики Е.Ф. Зябловским в его популярном для современников «Статистическом описании Российской империи», где говорится о гребенских, донских, запорожских, слободских, малороссийских, волжских, оренбургских, уральских, сибирских, черноморских, чугуевских и бугских казаках, но нет ни слова о представителях интересующего нас полка». То есть, не упоминается о казаках хопёрских.
А в таком авторитетном издании как «Военный энциклопедический лексикон» о хопёрском полку приводятся следующие строки: «В 1717 г. при построении Новохопёрской крепости (ныне уездный город Воронежской губернии) переведены были туда на жительство несколько сотен донских казаков, которые первоначально составляли гарнизон крепости. В 1777 г. из них составлен пятисотенный полк и переселён в Кавказскую область, в том же году в состав полка поступили пленные персияне и несколько семейств мирных горцев». И что удивительно, и здесь не упоминается о предположительной истории хопёрцев, связанной с Петровскими походами на Азов 1695-1696 годов, по которым и было определено старшинство Кубанского казачьего войска. Но если бы только старшинство определялось. Но была установлена новая история войска, его истинной истории не соответствующая…
Историография Кубанского казачьего войска, как впрочем и Кавказской линии, отличается каким-то поразительным непостоянством и переменчивостью. Она изменялась, причём, радикально, в ту или иную эпоху по соображениям отнюдь не историческим. Это убедительно и показал в своём исследовании В.А. Колесников.
Складывается впечатление, что на каком участке линии, в каком войске и в каком полку служил тот или иной историк, о том и писал, абсолютизируя своё подразделение, ставя его в центр событий Кавказской войны. Так собственно и произошло с Хопёрским полком: «Первым, кто по-настоящему проявил внимание к Кавказскому линейному казачеству, стал генерал-майор, сенатор Иосиф Львович Дебу», в его замечательной, содержательной книге «О Кавказской линии и присоединённом к ней Черноморскому войску…» (Санктпетербург 1829 г.). И понятно, ведь он был начальником левого (Терского), а с 1816 года – возглавлял правый (Кубанский) фланг Кавказской линии. Его работа положила начало изучению Кавказского линейного войска, что было и замечательно, и необходимо. Но мы говорим всё-таки о Черноморском, Кубанском войске… Так складывался некий стереотип в понимании кавказского казачества, когда кубанцы рассматривались не иначе как через линейцев, ядро которых якобы составляли хопёрцы, каковыми они не были.
С 60-х годов ХIХ века исторические материалы о хопёрцах начинают существенно отличаться. Скажем, в работах Василия Александровича Потто. Справедливо отмечал В.А. Колесников, что заслуги хопёрцев «вплоть до официального назначения им старшинства, особенно не рассматривались и не подчёркивались, а в различных изданиях, где речь шла о кубанском войске, традиционно повествовалось о переселении на Кавказ черноморских казаков».
Что стало причиной столь радикального изменения истории Кубанского войска: найдены новые архивные материалы, новые события по-новому открыли смысл происходившего ранее? Да нет же, всё определялось личными пристрастиями того или иного автора, что не позволяло представить общую картину Кавказской войны.
В высшей мере примечательно и то, как зарождалось это старшинство и чем оно тогда мотивировалось. Оказывается, всё началось чуть ли не с простой заметки, корреспонденции: «Что касается хопёрцев, то их «кавказская военная история» первоначально уступала вышеупомянутым очеркам, ограничиваясь лишь небольшой заметкой, посвящённой посещению великим князем Михаилом Николаевичем станиц 4-й (Хопёрской) бригады (1-2 мая 1867 года). На торжественном обеде в ст. Невиномысской Его Императорское Высочество произнёс тост за здоровье 4-й (Хопёрской) бригады, в котором несмотря на протокольность мероприятия, тем не менее, оказались озвучены важные аспекты. Так было сказано, что именно это подразделение является старейшим из частей Кубанского войска… Данная корреспонденция была подписана псевдонимом «Хопёрский казак И.К.», за которым легко угадывался один из будущих столпов Хопёрской историографии генерал-майор Иван Семёнович Кравцов» (В.А. Колесников), И.С. Кравцов – «историк-любитель», командовавший в то время Хопёрской бригадой. Он и составлял историческую справку для высочайшей особы. Позже он становится знаковой фигурой в дальнейшей эволюции хопёрской историографии, певцом хопёрской старины… Так хопёрская историография становилась историографией кубанской, что трудно назвать «эволюцией», имеющей отношение к истории кубанского казачества… Но удивительно, что писания «историка любителя» в дальнейшем становятся чуть ли не основой для профессиональных историков – П.П. Короленко, Е.Д. Фелицына, Ф.А. Щербины.
Любопытна и сама мотивация установления старшинства в Кубанском войске по Хопёрскому полку: «Перелом в репрезентации кубанского казачества в местных и столичных печатных материалах внёс приказ по военному ведомству № 106 от 28 марта 1874 года, согласно которому начало всего войска должно было считаться по старшему одного из его полков – Хопёрскому. Это распоряжение мотивировалось Сенатским указом от 2 июня 1724 г., обнаруженным в первом издании полного собрания законов Российской империи, где в пункте 13 говорилось, что казаки, живущие в Новохопёрской крепости «были в походе под Азовом и на разных баталиях шведских». Дата основания второго по величине казачьего войска, таким образом, была окончательно утверждена по 1696 году, и оставалось только осуществить достойную «подачу» истории хопёрцев, тем более, что не за горами маячил двухвековой юбилей» (В.А. Колесников).
Обратим внимание на то, что в упомянутом Сенатском указе говорится не о хопёрцах, а уже о новохоперцах; каковыми они стали в 1717 году, после царского разрушения их городков. Более 20-ти лет спустя после Петровских походов. А дата старшинства тем не менее устанавливается по 1686 году только по предполагаемому участию хопёрцев в Петровских походах на Азов. Да и «баталии шведские» были уже позже. Явное несоответствие даты, по которой устанавливалось старшинство. Совершенно справедливо отмечал современный историк, что «малодоказательными выглядят и версии автора (Толстова и, пожалуй, всех авторов – П.Т.) в отношении участия хопёрцев в громких событиях Петровской эпохи… слабая доказательность их старшинства именно в 1696 г.» Понятна деликатность историка о слабой доказательности такого старшинства. Но в пользу этой даты не было никакой доказательной базы.
Обратим внимание так же и на то, что стало причиной, столь, предвзятого толкования истории для кубанских исследователей: «Не обошёл своим вниманием рассматриваемых казаков и такой признанный к этому времени специалист как войсковой архивариус Прокофий Петрович Короленко. Убеждённый «черноморофил», радетель запорожской старины, он, как показали дальнейшие события, вынужденно обратился к прошлому чуждых ему линейцев, не посмел оспаривать Высочайшее утверждённое по Хопёрскому полку старшинство». И не только он не посмел оспаривать высочайшее решение… Но теперь-то, когда и высочайших особ, это устанавливавших, давно уже нет, можно более здраво и объективно отнестись к своей истории, наконец-то «посметь» это сделать?..
Если говорить о докавказской истории хоперцев, то В.А. Колесников предлагал иное, более объективное старшинство: «Логично было бы взять за точку отсчёта самого заслуженного из них Острогожского, т.е. в 1652 г., что существенно отодвинуло бы хронологическую планку старшинства». А если говорить о кавказской их истории, то там они далеко не были первопоселенцами и, как мы уже увидели, не являлись самым старым полком.
Поскольку труды казачьих историков зачастую носили характер полковых хроник, писавшихся самими служилыми людьми, самодеятельными авторами, то они, как уже сказано, абсолютизировали роль своих подразделений в истории края. То есть, проявляли при этом некий исторический сепаратизм. И как ни странно именно эти труды, поддерживаемые сверху, определили направление и задали тон исторических изысканий, даже в исследованиях профессиональных историков, ставя их в двусмысленное положение: с одной стороны, стремление создать истинную историю, с другой – не смея противоречить установлению, предписанному свыше. Не избежал этого даже такой историк как И.Л. Дебу. Это сказалось уже в названии его книги: «О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске». Конечно, Черноморское войско не присоединялось к Кавказской линии. И не были эти войска слиты в единое войско даже после 1860 года. И уж тем более, хопёрские казаки не составляли ядра Кубанского войска, как писал о том И.Л. Дебу. К Черноморскому войску были присоединены шесть бригад линейного войска правого фланга Кавказской линии: «8 февраля 1860 г. издан указ о переименовании правого крыла Кавказской линии Кубанской областью, левого – Терской областью. К правому крылу относилась территория от северо-восточного берега Черного моря до верховьев р. Малки, включавшая земли Черномории, Старой линии, Черноморское побережье, а так же вновь занимаемые пространства за р. Кубанью. 19 ноября того же года Черноморское казачье войско, в состав которого, вошли шесть бригад Кавказского линейного войска, переименовано в Кубанское. В итоге этих преобразований Екатеринодар стал центром одной из крупнейших административных единиц юга России – Кубанской области, оставаясь одновременно резиденцией наказного атамана Кубанского казачьего войска» («Екатеринодар – Краснодар. Два века города. Материалы к летописи, Краснодар, 1993 г. То есть, преемственность от Черноморского войска была сохранена.
Об этом писал ранее в своей истории и В.Г. Толстов: «В 1860 году из Кавказского линейного и Черноморского казачьих войск было образовано два войска: Кубанское и Терское. В состав первого из них вошли всё черноморское войско, Хопёрская, Ставропольская, Кубанская (состоящая из донских казаков – П.Т.), Кавказская, Лабинская и Урупская бригады; остальные бригады Кавказского линейного войска образовали Терское войско».
С какой стати теперь, в новом Кубанском войске история его должна исчисляться по старшинству от Хопёрского полка, никак предшествующей историей с ним не связанного? Никаких ни исторических, ни логических причин для этого не было. Кроме, разумеется, решений высокого начальства. Но мы ведь говорим всё-таки об истории, а не об обслуживании псевдоисторической наукой постановлений начальства, которые могут быть разными – и во благо народу, и во вред ему, что видно уже по приводимым нами историческим примерам.
И кстати сказать, подобное административное деление в этом регионе сохранялось и позже, сохранилось оно вплоть до сегодняшнего дня : Ставропольский край и Краснодарский край, но не некое единое административное образование.
Я ссылаюсь столь обильно на предшествующих историков, стараясь избежать эклектичности, так как в их трудах есть много верного, объективного, хотя подчас и потопленного в декларациях, казачьим историкам свойственных изначально. Я только обращаю внимания на те их выводы, которые, как мне кажется, объективно представляют историю казачества, без которой и история России остаётся неполной.
На первый взгляд может показаться непонятным и необъяснимым то, почему черноморцы к этим преобразованиям и даже к переименованию их войска в Кубанское отнеслись отрицательно и даже враждебно. 4 октября 1860 г. во Владикавказе, генерал-фельдмаршал А.И. Барятинский подписал проект преобразования Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск… По принятому плану, по предложению генерала Г.И. Филипсона: предстояло переселение казаков в Закубанье, на передовые линии единовременно, целыми станицами, что было для них разорительным. Они стали требовать предъявления им царского Указа и заявили, что без «верховного повеления», станицы идти на новые линии отказываются . «Однако требуемого «Высочайшего указа» «не изходатайствовали», а потому ничего предъявить казакам не могли». (В.А. Жадан. «Забытый атаман Кубанского войска», «Кубанское казачество: три века исторического пути», Краснодар, 1996 г.).
Наказному атаману Кубанского казачьего войска генерал-адъютанту графу Н.И. Евдокимову 2 мая 1861 года была подана «Докладная записка дворян Черноморского казачьего войска», которую подписали генерал-майоры Котляревский, Кухаренко и 92 штаб и обер-офицера. Налицо было явное неповиновение местному начальству. В «Докладной записке…» излагались условия переселения за Кубань: «Чётко обозначить границы закубанской территории, предлагаемой к заселению именно черноморцами, и закрепить её за войском «Высочайшей грамотою» по примеру 1792 года… переселение осуществлять по желанию и жребию, без принуждений… Выступили дворяне и против названия Кубанского войска. Они требовали «отделить» от Черноморского войска шесть линейных бригад и возвратить черноморцам прежнее название войска» (В.А. Жадан. «Бунт дворян-казаков в Екатеринодаре весной 1861 года», «Казачество России: история и современность 1792-2002…», Краснодар, 2002 г.).
Черноморцы хотели остаться черноморцами, по всей видимости, потому, что подозревали, что в результате этих преобразований в Черномории будет установлена служба по примеру Кавказской линии. То есть, их казачье войско собственно войском перестанет быть. Примечательна при этом их оговорка: «По образцу 1792 года», то есть, с дарованием им земли на вечные времена.
Атаману Н.И. Евдокимову пришлось взять на себя ответственность и отменить переселение весной 1861 года, подготовить и отправить в Тифлис новый проект заселения предгорий – по жребию от всех станиц правобережной Кубани, со значительными льготами. Царь Александр II выразил Н.И. Евдокимову своё неудовольствие. Однако, одобрил его план. Была одобрена и система переселения. В конце концов жёсткий конфликт даже с арестом десяти наиболее влиятельных офицеров-черноморцев с отправкой их в Ставропольскую тюрьму, был улажен, итогом чего стал рескрипт императора от 24 июня 1861 года. А в сентябре 1861 года во время приезда Александра II в Кубанскую область, все участники бунта были помилованы. Показательно, что главным вопросом в этом конфликте был вопрос о земле, о передаче её войску в вечное и потомственное владение. Это подтверждается и тем, что Царскую грамоту на владение закубанскими землями Кубанское казачье войско получило лишь в 1889 году…
Было бы опрометчивым объяснять этот бунт только классовым подходом, тем, что это, мол, взбунтовались только дворяне, владельцы хуторов, стад, мельниц и больших пространств земли, опасаясь их потерять. Причина его была более глубокой и в конце концов крылась в существенных различиях Черноморского Кубанского казачьего войска и Кавказской линии, всего уклада их службы и жизни.
Это какое-то изначальное противопоставление самостоятельных казачьих войск – Черноморского (Кубанского) и Линейного (Терского) чувствуется в исторических исследованиях до сего дня. Причина его, кроется в существенном отличии этих войск. Ведь Кавказское линейное войско (1832 г.) имело, по сути, армейскую организацию и существовало по войсковому положению. Говорить при этом о казачьей демократии не приходилось, так как полновластными начальниками, как военными, так и гражданскими, являлись командиры полков, а в станицах есаулы. Даже земля принадлежала не войску в целом, а отдельным полкам. Конечно, это можно было бы объяснить беспокойной пограничной службой с постоянными набегами неприятеля и защитою своих городков и станиц. Другой, мол, формы службы и жизни в таких условиях и не могло быть. Но ведь и служба черноморцев была не менее беспокойной и опасной.
Завершая свои размышления об истории с историей Кубанского казачьего войска, сошлюсь на не подлежащий сомнению вывод историка В.А. Колесникова: «Назначение старшинства в Кубанском войске по хопёрцам заставило полковое историописание развиваться в достаточно узких рамках, ограниченных вопросами происхождения, давности службы, участия или неучастия представителей в том или ином славном событии. Не стоит забывать и то обстоятельство, что казачьи историки Кубани обязывались к обеспечению и определённых идеологических функций, что во многом влияло на качество их изысканий и, безусловно, обедняло содержание выходивших работ, делая их менее объективными». То есть, при таком «старшинстве», предполагавшем лишь военную сторону жизни казачества, не достигается его историческая полнота в долгий, трагический период освоения Северного Кавказа, и прежде всего – его духовно-мировоззренческая, цивилизационная роль в истории России, так как при этом вольно или невольно искажается сама уникальная природа казачества, только России свойственного и присущего. Мне же остаётся напомнить извечную истину, выраженную в стихах большого поэта советской эпохи Ярослава Смелякова: «История не терпит суесловья,/ трудна её народная стезя./ Её страницы, залитые кровью,/ нельзя любить бездумною любовью/ и не любить без памяти нельзя».
Как теперь со всем этим быть? Просто перестать искажать свою историю, ссылаясь на какие бы то ни было тесные обстоятельства, какие у всех и во все времена бывают; помнить о том, что искажённая история неизбежно влечёт за собой и искажение жизни, что коснётся всех, в том числе и тех, кто это делает; помнить о том, что говоря об истории, мы говорим и о своей нынешней жизни; наконец, следовать завету наших великих предшественников: «Да ведают потомки православных/ Земли родной минувшую судьбу» (А.С. Пушкин, «Борис Годунов»).
Нас могут упрекнуть в том, что мы в своём повествовании не привносим новые факты, не обращаемся к неизвестным до этого источникам, что является бесспорным признаком новизны исследования. Но нам бы в пору разобраться с фактами хорошо известными, поставить их в правильное соотношение и не выводить из них тех смыслов, какие из них не следуют, что не является редкостью в нашей историографии…
Что же касается происхождения и природы казачества, то оно, безусловно, выходило из всей предшествующей русской жизни, оно было – «необыкновенное явление русской силы» (Н. Гоголь). И.Д. Попко полагал, что «в казачестве нашла своё продолжение первая, прочно организованная военная сила на Руси – дружина». Ф.А. Щербина считал, что «казачество появилось на смену вечевого уклада народной жизни». И это справедливо, если рассматривать историю народа и страны в её общем непрерывном течении со времён стародавних до нынешнего дня.