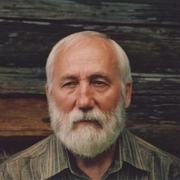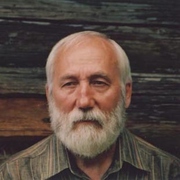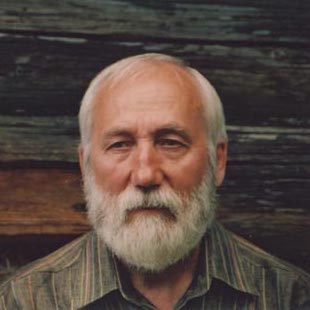
Я не против умных и всяких машин, я не против прогресса. Я так рассуждаю: нож – он не плох и не хорош, не добр и не зол, он – мёртвая сталь, но он остр. Им можно резать хлеб, чистить картошку, мастерить дудочки, на которых играют пастушеские элегии; можно прививать деревья, а можно ножом живот человеку вспороть и самому можно сильно порезаться. Нож не плох и не хорош, но он остр. Надо уметь им пользоваться. Самое главное – в чьих он руках. В руках доброго, культурного, а ещё лучше – верующего человека, он служит добрым делам, а в руках неразвитого животы вспарывает…
А сегодня у нас такие острые «ножи»: атом, лазер, ракеты… И ещё страшнее «ножи», которые не только тело, но душу человеческую могут так поранить, так изуродовать, не приведи Бог. «Цифра», искусственный интеллект, всякие новые технологии, генетика, не только клонирующая животных, но уже и к человеку подбирающаяся…
Чего далеко за примерами ходить. Компьютеры, мобильники, айфоны – эти передовые изобретения прогресса уже угробили у нас два-три поколения. И продолжают гробить…
Что же нем делать? Как защититься от этого страшно острого прогресса? Кажется ответ очевиден: надо, чтобы им управляли люди, могущие обернуть эти чудовищно острые «ножи» во благо человеку. Но, что для человека благо? Цифровики, айтишники этого не знают, не думают об этом. Им, как несмышленым детям, интересно играть со спичками рядом с цистерной бензина. Они восторженно, свысока заявляют, что прогресс несёт человеку одно полезное, а всех, кто в этом сомневается, думает по-другому, они объявляют отсталыми. Их главная беда в том, что они не обладают Божественной культурой. Они, в большинстве своём, не верят в Бога, а верят в науку…
Божественная культура зиждется на трёх столпах: Вере православной христианской, жизни на земле и русской культуре. Почему на вере христианской? Думаю, это даже обсуждать не нужно. Почитайте десять заповедей христианских. Или хотя бы две заповеди о Любви. Любви к Богу и Любви к людям. Если человек их не знает – он не совсем человек.
А вот о русской культуре надо хотя бы немного поговорить. О её великом значении. Особенно в наше время. В замечательном фильме «Позывной «Пассажир», снятому по роману Александра Проханова (недавно президент присвоил ему звание «Герой труда») офицер с позывным «Курок» никак не откликается на просьбу мальчишки Митьки взять его в окопы. Дело происходит в 2014 году на Донбассе. Митька пытается уговорить «Курка», дескать, он знает пулемёты, автоматы… «Курок» неожиданно спрашивает: «Ты «Евгения Онегина» читал?». Митька потупляет глаза: «Нет, не читал». «Курок» уже решительно ставит точку в их разговоре: «Вот когда выучишь его наизусть, тогда я тебя в окопы возьму». Что русский офицер сказал Митьке и всем нам, зрителям фильма? Для того, чтобы стать настоящим русским воином, мало знать автоматы и беспилотники. Прежде всего надо знать русскую Божественную культуру, Россию-Матушку надо знать. «Евгения Онегина» мудрые люди называют энциклопедией русской жизни. Главного Митька, да многие наши сограждане, пока не знают. Некоторые наши руководители, прельщённые прогрессом, утверждают, что у нас молодёжь замечательная. К сожалению, это не так. Кто у нас сегодня диверсии, теракты, пожары устраивает? В основном люди, угробленные мобильниками и компьютерами. «Курок» прав: главного наши дети, наша молодёжь не знают. А вот руководители, прельщённые прогрессом, неправы. Надо бы им на всяких молодёжных форумах, беря пример с мудрого русского офицера, героя фильма «Позывной «Пассажир», внушать ребятам, что хотя они и побеждают на международных олимпиадах по математике и физике…, но главного, что делает русского человека человеком, Божественной культуры, они не знают; что пока они ещё неграмотные, пока ещё маленькие… Вот когда выучат наизусть «Евгения Онегина», тогда с ними можно будет разговаривать по-взрослому. Но, боюсь, нескоро это произойдёт – эти руководители сами не знают «Евгения Онегина», сами не обладают Божественной культурой.
+ + +
Талантливых людей много, а настоящих больших художников - мало. Почему так? Кроме таланта, надо ещё иметь в душе, в сердце огонь.
Недавно у нас гостили друзья из Абхазии. За столом академик Владимир Константинович Зантариа поднял тост за огонь. Рассказал, что у абхазов до последнего времени огонь в очаге никогда не гас. Кто ложился спать последним (кто-нибудь из старших), тот засыпал угли золой, а утром он же раздувал огонь. Это действо происходило у абхазов много-много веков. Этот негаснущий вечный огонь передавался из рук в руки следующим поколениям. Владимир Константинович заключил: «Очень важно не по новой каждый день зажигать огонь, а поддерживать, хранить вечный огонь твоих предков, а иначе станет у нас всё однодневным…».
Наша русская победа в Великой Отечественной войне, наш «Бессмертный полк» - это тоже наш вечный огонь. Путин это прекрасно понимает. Потому мы празднуем Победу уже 80 лет и будем праздновать пока стоит Россия. Будем передавать её от поколения поколению, как абхазы огонь очага. Тогда никто нас не победит! Наши враги это понимают и стараются переписать историю, дескать, это они победили фашистов. Хотят отнять нашу Победу, погасить наш Вечный огонь, чтобы тьма нас объяла. Без огня всегда темно…
Главными хранителями наших русских огней много-много веков были крестьяне. Крестьяне и христиане – синонимы. Это почти одно и то же. Они пронесли сквозь пожары и войны, сквозь тысячелетие, веру нашу православную христианскую, традиции народные и наш великий русский язык. Моя бабушка Нина говорила сплошь пословицами и поговорками, и сама их на ходу сочиняла. К примеру, добавила к известной весёлой пословице «В сорок пять – баба ягодка опять» свою суровую концовку «которую птицы и в голодный год зимой не клюют». Она имела право так сказать: одна вырастила восьмерых детей и к сорока пяти годам выработалась до невозможности. Какая тут ягодка?! Какие тут мужики?! Моя мама в старости вспомнила почти пятьсот пословиц и поговорок, которые знала баба Нина. Моя жена Марина перепечатала их и повесила на многих листочках на стене возле моего стола. Много лет, прежде чем начать заниматься, я, переходя от листочка к листочку, прочитывал их – поднимался по ступеням бабушкиной мудрости…
Почему же крестьяне, а не рабочие городские, не более образованные, более культурные дворяне, разночинцы всяческие, были главными хранителями русских огней? На мой взгляд потому, что крестьяне общались с живым. С Богом, который живее всех живых (не Ленин, а Бог); с другими людьми, с животными, птицами, с деревьями, с цветами… Даже морковка на грядке - она живая. Более того, крестьяне другим жизнь давали своим трудом. У крестьян ко всему сущему было родное, любовное отношение. Моя двоюродная бабушка Василиса всегда выпускала из дома пчёл, ос, бабочек, шмелей. Прихватив их полотенцем на окне, приговаривала: «Мы тебя обижать не будем, мы тебя на волю выпустим». Я тоже, увидев залетевшую в дом крылатую гостью, прошу, как Василиса просила: «Иди, голубушка, на окно, чтобы я смог тебя поймать». Не поверите, почти все меня слушаются, как слушались Василису – садятся на окно. Закутав гостью в полотенце, я непременно вспоминаю Василису. Крылатые как будто затем и залетают ко мне, чтобы я её вспомнил. Она много чему меня научила. Не только любви ко всякой Божьей твари. Однажды, в конце восьмидесятых, устав от своего бессмысленного разгульного существования, я собрался покинуть этот свет, свести счёты с жизнью. Направился к Москве-реке. Проходя мимо храма, вдруг вспомнил, как Василиса ночью затепливала лампадку на Божнице, становилась на колени. Молилась она шёпотом, но мне почему-то становилось так хорошо, так светло на душе. Глядя на храм, я вспомнил благодать Василисиных молитв, она проснулась в сердце, и вместо реки, в которой собирался утонуть, я вошёл в ладью спасительную – в храм…
С экраном, с машиной не поговоришь, не погладишь их, не выпустишь на волю. Разве что сойдя с ума. Я не просто летучих гостей выпускаю на волю – я поддерживаю огонь Василисиной любви к Богу, ко всему сущему.
Рабочие, инженеры на заводах и фабриках общались с машинами, со станками – с неживым. Да не общались, а, выражаясь точнее, обслуживали их, имели с ними дело. Наш мудрый русский народ говорит: «С кем поведёшься, от того и наберёшься.» Крестьяне водились с живым и набирались жизни, и сами жизнь другим дарили; а рабочие, инженеры водились с мёртвыми машинами, с неживым и набирались неживого, мёртвого.
На мой взгляд именно поэтому рабочие стали главной движущей силой революции в 1917 году. В наше время не раз подтвердилось: те, кто с неживым водится, те становятся бунтовщиками. Уж как Лукашенко лелеял и холил своих айтишников, а они вместе с зарубежной сволочью чуть не совершили в Белоруссии цветную революцию. А кто сотнями тысяч убежал из России, когда началась специальная военная операция на Украине? Айтишники, цифровики и прочая… Вглядитесь в их лица, в их глаза, послушайте как они говорят и о чём они говорят. Они мало чем отличаются от компьютеров и мобильников. Все они больны и телом, и душой. «Как волка ни корми, а он всё в лес смотрит». Опять же точно русский народ сказал.
Зато наши бойцы на войне, как когда-то крестьяне, всё с живым водятся: с Богом (на войне, как известно, атеистов не бывает); с природой. Из репортажей военкоров очевидно, что почти к каждому подразделению прибились в поисках спасения от голодной смерти кошки и собаки. Один фронтовик рассказал, что ночью на его груди, на спальнике, мыши спали. В блиндаже воды много было, вот они и спасались у него на груди. Он не только страну грудью защищает, но даже мышей. Конечно, боец их не сбросил. На войне русский язык хорошо вспоминается. Не только мат. Хотя там и мат простителен. Там мат не от распущенности, там – от невыносимости. В окопах, в госпиталях воины книги читать начали в свободную минуту.
Наш святейший патриарх Кирилл уже не раз после Литургии, даря свою книжечку пастве, пояснял: «Я теперь маленькие книги пишу. Большие теперь никто не читает. Маленькие можно в карман положить, можно везде с собой взять.» Очень он меня этим словом про маленькие книжки порадовал, перекликнулся он со мной… Наш многоуважаемый Никита Сергеевич Михалков подхватил мое «перекликнулся», но ввёл в оборот вместо «перекликнулся» свое «аукнулся». В начале 90-х годов я в дороге не раз рассказывал очень хорошему человеку Мише Лузгину, из уважения и благодарности к моему писательскому призванию много раз возившему меня на своем стареньком «жигулёнке» из Москвы в деревню, что я вопреки всему никогда не брошу свое писательство - буду издавать маленькие книжечки и продавать их, выступая в школах, институтах, на заводах, в воинских частях… Миша слушал меня молча, но я чувствовал – он не верит, считает меня мечтателем, фантазёром. Он хорошо видел куда катится наша страна, что русская культура, русские писатели нынче никому не нужны. Но, вопреки всему, я осуществил свою мечту: написал и издал больше десяти книжечек, которые можно в карман положить, везде с собой взять. Тиражи крайних двух «крохоток» я отослал на войну на Украине. Надеюсь, они лежат в карманах у многих защитников Родины. Не знаю, читал или не читал святейший патриарх Кирилл мои махонькие книжечки. Скорее всего не читал – дел у него невпроворот. Но я, фантазёр, мечтаю, что он хотя бы подержал их в руках, и они навели его на мысль, что сегодня лучше всего писать и издавать «карманные» книжечки. Вольно или невольно святейший перекликнулся со мной… Поддержал меня… По-михалковски сказать «аукнулся».
+ + +
Нужно нам срочно – промедление смерти подобно – с детского сада прививать детям веру в Бога, прививать любовь к работе на земле, учить их прежде всего не с роботами и айфонами обращаться, а с книгой, с культурой русской. С начальной школы наряду с азбукой и арифметикой на первом месте должен быть «Закон Божий» или для начала хотя бы «Основы православной культуры».
+ + +
Мы, православные христиане, самый радостный народ на земле. Мы все время радуемся. Неверующие даже попрекают нас: «У вас сплошные праздники». А как же нам не радоваться, как же не праздновать – у нас «Христос Воскресе». У других вероучений Бог не воскресал. Нечего им каждый день, каждый миг праздновать. У других вероучений Господь наш Иисус Христос, Бог, не страдал за нас, жизнь за людей не отдавал! Они не знают что такое Любовь Божья! Если Иисус Христос – не Бог, а всего лишь человек, пусть даже и пророк, то эти люди не познали Любви Божьей к нам, людям, во всей её необъятной, немыслимой, безмерной, до смерти, полноте. А мы, христиане, познали Любовь Божью! Никого не хочу обидеть, Боже упаси, но из любви ко всем людям просто говорю правду. Жажду, чтобы все на земле тоже познали Любовь Божью во всей её полноте…
Все люди могут войти в нашу радость христианскую. Мы не просто восклицаем «Христос воскресе», но хотим донести до каждого сердца главную истину жизни, что Христос, Сын Божий, отдал за нас жизнь и воскрес. Кто отвечает нам возгласом «Воистину воскресе», тот подтверждает: Бог так нас любит, что отдал за нас жизнь и воскрес для нашей вечной радости. Мы ведь не только сами радуемся «Христос воскресе», но мы всех призываем войти в нашу радость «Воистину воскресе». Мы не навязываем, мы призываем на наш праздник. Хотим всем передать огонь Божественной Любви.
+ + +
Нынче многие патриоты ратуют за то, чтобы ввести в школах уроки начальной военной подготовки, НВП. Согласен, но считаю не менее важным ввести уроки труда. Чтобы наши дети с малолетства не на машинах, принтерах и компьютерах, а именно своими руками – топором, пилой, лопатой – что-нибудь строили, мастерили; чтобы сажали деревья, репку, морковку живую – чтобы учились давать жизнь другим… Наша старовская мудрая женщина – баба Настя (она была верующая – поэтому царство ей небесное, а не земля пухом) частенько говаривала: «Главное пропотеть». Мы, сидя за её щедрым столом, выпивая не первую чашку чая, посмеивались: мол, какая ты, однако, шутница. А недавно учёные открыли, что человеку, чтобы быть здоровым, надо пропотеть в день не менее восьми раз. А как ты у компьютера, у айфона пропотеешь? У них ты обречён на болезни телесные и душевные. Опять наши крестьяне мудры…
Все мы, русские люди, вышли из деревни. В 60-е – 70-е годы прошлого столетия многие горожане вдруг рванули на дачи. Теперь понимаю: они не только ради огурчика да помидорчика, а просто душе человеческой уже невмоготу стало жить в тесном муравейнике среди машин и станков. На даче не только можно было пропотеть восемь раз, но и душу согреть. Здесь душа не только с живой морковкой, с птичками с деревьями водилась, но и с другими людьми. Город людей разобщает. Здесь не надо здороваться, как в деревне, со всеми встречными – с ума сойдёшь; здесь не знают соседей по подъезду, а то и по лестничной площадке. Чуть не написал по «лестничной клетке». Оговорка промыслительная - город- «клетка». А на даче обычно сдруживаются. Знаю многих москвичей, которые не знакомы с жильцами их подъезда, а на даче настолько сблизились с соседями, что потом в Москве встречаются по праздникам. На шести дачных сотках советские люди пытались не только пропотеть, но согреть душу, замёрзшую от городской мертвечины. Надо, чтобы наши дети, да и все мы, водились не только с машинами, компьютерами и мобилами, а с живым. С кем поведёшься, от того и наберёшься. В школах надо снова посадить сады, завести живой уголок с какими-то зверьками, птицами. Может открыть приют для бездомных собак и кошек? У нас в Мухоршиберской школе был конь Ванька. Все его любили – угощали хлебом, сахаром. Однажды завхоз по пьянке забыл распрячь Ваньку на ночь и мой любимый учитель Михаил Кондратьевич Оленников назвал завхоза фашистом и не разговаривал с ним пока тот не попросил прощения.
Сегодня мы уже потеряли два-три поколения молодых. Не обладая русской Божественной культурой, они утонули в виртуальном море, запутались во всемирной паутине интернета…
Только на трёх столпах может устоять наша русская держава: на вере православной христианской, на русской культуре и работе на земле. Сегодня мы – блудные сыны, убежавшие от Отца с Матерью. Отец наш – Бог на Небесах, мать наша – это Земля. Земля-Матушка у нас говорят. Мы и от Бога, и от Земли убежали, но во многом благодаря нашему путевождю Владимиру Владимировичу Путину возвращаемся к Отцу с Матерью, к Божественной Культуре. Президент в этом показывает личный пример. Правда, этого мало. Он не может заменить всех чиновников, всех учителей в школах, воспитателей в детсадах, преподавателей в университетах. Надо нам всем капитально заняться перестройкой во всех сферах жизни. Прежде всего в образовании, воспитании. Одной постройкой новых школ, одними «Сириусами» и Олимпиадами дело не исправишь. Это всё косметика, это глянец. До сих пор почему-то не можем убрать это ЕГЭ, отучающее школьников мыслить, говорить, излагать всё по-русски.
А время летит с ужасающей скоростью. Надо нам становиться на три столпа решительно и бесповоротно. Для этого нужно стряхнуть с себя сонную лень и начать «шевелиться». У нас в деревне Старово-Смолино, когда я жаловался, что у меня что-то болит, мне всегда говорили: «Шевелиться надо». Мудры наши крестьяне…
Человек чуть не на 90% состоит из воды. Стоячая вода тухнет, портится, мертвеет. Потому человек должен «шевелиться», должен «течь», как река течёт к морю, а он – к Богу, к другим людям, к природе. В истории человечества это лучше всего получалось у русских крестьян. В таком суровом климате они умудрялись не только свою страну кормить, но и другие народы. А как крестьяне в Бога веровали! В наших сёлах часто не одна, две церкви стояли. Очень точно, очень глубоко и прекрасно о Святой Руси сказал на последней своей картине «Озеро» русский художник Исаак Левитан. На полотне у него на трёх верстах земли – три белых храма! На холсте у Левитана – одно небо! В озере отражаются белые облака и белые храмы. Какое это озеро?! Какая это вода?! Это небо. Какая это земля, если на трёх верстах три белых храма! Это не земля, это небо! Картина потрясающе просторна, как просторно небо. Гениально Левитан написал, но с названием ошибся. Вернее не ошибся, а поскромничал прямо сказать, что он не «Озеро», а «Святую Русь» или же «Русское небо» написал…
Мне старики рассказывали: многие разбогатевшие на стороне люди приезжали в родное село и спрашивали земляков: «Что вам построить? Дорогу или храм?» Потому у нас так мало дорог и так много церквей. Храмы наши предки выбирали! На Западе всё дороги по земле строили и, посмотрите, куда они по ним приехали. В Содом и Гоморру! Ужас. А русские крестьяне выбирали дорогу к Небу. Они знали: шевелиться надо не только телом, но и душой. Душой прежде всего. Потому у нас мало дорог и много храмов. А не только потому, что у нас земля самая просторная…
Ещё пришла мне на ум пословица бабы Нины: «Простота, которая хуже воровства». Думая о нашем времени, о прогрессе, я её часто вспоминаю. Прогресс всё навязывает нам комфорт, удобства и простоту их употребления. Не предлагает, а именно навязывает. Очень назойливо и неотступно. Недавно столкнулся в банкомате с новой программой, где надо ещё улыбаться. Думаю не один я, а многие пожившие на белом свете люди ругнулись: «Может вы ещё сплясать прикажете?». Хотя у нас и так почти вся страна под их нудную волынку пляшет. Я же вспомнил русскую поговорку: «Когда коту нечего делать, он я...а лижет». Простите за грубость, но это правда.
Со всеми этими удобствами прогресс по сути зовёт, приучает нас, по-русски сказать, «сиднем сидеть», не шевелиться. То есть стать больным и телом, и душой. Вот это и есть простота, которая хуже воровства. Обыкновенные воры материальное у нас похищают - вещи, деньги, а прогресс – здоровье телесное и душевное, саму жизнь у нас ворует. Вся эта простота употребления услуг хороша для больных. А зачем же здоровых людей в больных превращать? Чтобы врачей и фармацевтов без работы не оставить?!
Однажды баба Нина, когда мы по недомыслию освободили её даже от мытья посуды и подметания полов (мол, ты наработалась – отдохни), стала на подоконнике в мокрой тряпке проращивать яблочные семечки. Попросила меня весной посадить их в садике под окном. Я попытался ей втолковать, что не надо возиться с этими семечками – гораздо проще купить саженцы. Баба Нина не согласилась: «Может и проще, но не лучше. Посадишь их, вырастут яблони, и ты в жару будешь сидеть под ними в тенёчке. Глядишь, и вспомнишь меня, вредную старуху». Я не стал спорить, но всем своим видом показал, мол, конечно, это блажь старческая, но из любви я исполню твоё желание. Весной посадил семечки в садике, а баба Нина смотрела из окна и радостно улыбалась. Тем летом она умерла…
Через годы, приехав в родное село, я вспомнил про семечки, пришёл к нашему дому, посмотрел. Нет, не выросли. И так мне до слёз стало больно. Стоя у нашего садика, я наконец понял: баба Нина хотела яблоню именно её руками из семян выращенную. Хотела нас соединить навечно через эту яблоню. Хотела мне свой огонь жизни передать…
Горько мне стало, что я никогда не посижу под бабы Нининой яблоней, не вспомню под её сенью благодатной, как она глядела на меня из окна и радовалась. Как говорила: «Может и проще, но не лучше». Запомнил я всё очень хорошо. Значит, семечки бабы Нины проросли во мне. Ещё я запомнил: однажды ночью незадолго до смерти она села на пол и заплакала: «Сдвинулось, всё сдвинулось.» Она так хотела передать мне свой огонь жизни, а я ей все про простоту… Теперь часто вижу душевными очами: баба Нина глядит на меня из окна, а я сажаю её, наши, семечки… Значит передала она мне свой огонь, без которого нет жизни! Глядя на сегодняшнюю суету сует, мне тоже иногда хочется заплакать: «Сдвинулось, всё сдвинулось».
+ + +
У меня есть такое правило: если можешь пройти куда-то пешком - пройди, а не на машине прокатись. В дальние края я всегда предпочитаю добираться на поезде, а не на самолёте. На самолёте вроде бы легче и проще, но я хорошо помню семечки бабы Нины, помню, что есть простота, которая хуже воровства. Поэтому предпочитаю ходить пешком, а не ездить на машине. Пешком я встречаюсь с другими людьми, с птицами, с деревьями, с цветами. В поезде я даже книги не читаю – всё время гляжу в окно. На нашей сибирской дороге от Москвы до Улан-Удэ хорошо помню реки, озёра, полустанки, некоторые дома даже помню. Мне кажется, что я и людей там узнаю. Много раз здесь ездил. На самолёте все мимо, мимо. Жизнь – это встречи. С Богом, с людьми, с природой. Народ сказал: «Тише едешь – дальше будешь». Конечно, тише ехать безопаснее, но почему «дальше»? Всё просто: когда тише едешь, то больше увидишь, со многим встретишься, а не сквозняком мимо всего пролетишь… В нашем Борисоглебском раю я стараюсь ездить не быстрее сорока километров в час. В раю есть на что полюбоваться, есть с кем встретиться.
Иногда встречаю на наших сельских дорогах, идущих по обочине пожилых одиноких мужчин и женщин, которые не то что руку не поднимают, мол, подвезите, но даже не оглядываются с надеждой. Идут себе под снегом и дождём. Гляжу я на них и на душе становится бодро и светло. Ещё не перевелись у нас люди, идущие твёрдо своей дорогой. Есть ещё люди с крестьянским огоньком в душе. Они хотят встречаться с жизнью, а не скользить мимо неё. Конечно, и снегом их заметает, и дождём мочит, и со страданием они нередко встречаются, но дома их ждёт любящий родной человек, который напоит с дороги чаем, а может и рюмку водочки поднесёт. Так её сладко выпить с устатку. С устатку водочка самая сладкая. Да всё с устатку слаще. Эти люди знают, что такое счастье встреч в дороге, в доме родном. Идут они по земле своими ногами, своей душой… Счастливцы!!!
В детстве я ходил из школы через луг. Садился на траву зелёную на бережку речки и подолгу смотрел на текущую прозрачную воду. В книге Иова многострадального сказано, что о горе и страдании (если они во славу Божью) «как о воде протекшей будешь вспоминать о них. И яснее полдня пойдёт жизнь твоя; просветлеешь, как утро». Прожив на земле 74 года, я согласен: страдания прекрасны, как прекрасна текущая вода. Бесконечно можно смотреть на неё. Великий абхазский поэт Мушни Ласуриа сказал: «Без страданий – жизнь пустая».
+ + +
С наших воинов надо брать пример, а стать настоящими крестьянами у нас навряд ли получится. Слишком далеко мы оторвались. Хотя в России столько земли! Каждая семья может жить в своём отдельном доме посреди цветущего сада; может водиться с живым и другим жизнь давать… Во всяком случае иммунитет, защиту от бездушного мёртвого, наглого прогресса мы сможем обрести, если встанем на три столпа: Веру православную христианскую, жизнь на земле и на Божественную культуру. В нашей русской Божественной культуре всё говорит о Боге, о душе человеческой, о чувствах высоких и прекрасных, а не о похотях и наслаждениях, не о развлечениях и эмоциях, как на гнилом Западе.
У нас Божественна не только культура до 1917 года, но и почти вся советская. Она тоже о душе человеческой. А где душа, там и Бог! Особенно это заметно у писателей «деревенщиков». В конце 60-х, в 70-е годы прошлого столетия, когда прогресс уж начал набирать свою страшную уничтожающую силу, именно они не дали повернуть вспять русские реки. Безбожные учёные и всякие либералы-прогрессисты предложили тогда чудовищный «проект» поворота русских рек с севера на юг. Писатели «деревенщики» Василий Белов, Василий Шукшин, Фёдор Абрамов, Валентин Распутин и многие другие русские деятели культуры решительно выступили против этого безумного движения вспять. И, слава Богу, они победили. Что бы было сегодня с Россией, потерявшей одно из своих главных природных богатств – реки?! Воду, без которой нет жизни. Страшно представить все последствия не только природные, геополитические, но моральные, нравственные. Об этом Валентин Распутин написал гениальную повесть «Прощание с Матёрой». Конечно же с матерью, с нашей Россией прощание.
Либералы, западники, создающие тогда элитарную литературу и искусство, подсмеивались над отсталыми деревенщиками. Называли их произведения «бабушкиной прозой». Тогда очень много бабушек появилось в нашей литературе. Я хорошо помню, как редакторы в толстых столичных журналах, когда я предлагал им рассказ «Скоро по ягоду» о Василисе, морщились: «Опять про бабушку?» Глупо морщились. Именно бабушки русские, «белые платочки» (так их точно и любовно назвал в одном своём произведении Владимир Крупин – они ходили в храм в белых платочках) в страшные безбожные годы советской власти сохранили нашу веру православную, сохранили русские традиции, наш великий русский язык. Сохранили бабушки русский огонь. Бабушки и писатели «деревенщики» не дали «утопить» нашу русскую Матёру, нашу Родину-Мать. Спасли великую русскую реку жизни! Писатели «деревенщики» – это всё сыны крестьянские, внуки этих бабушек, этих «белых платочков». Я тоже их внук…
Очень точно сказал о наших крестьянах мой друг поэт Евгений Юшин:
«Василий мерит синим взглядом,
По стенам, на исходе дня,
Где чинно, со святыми рядом,
Расселась вся его родня».
По чину крестьяне русские сидят. Рядом со святыми их место!
+ + +
Сегодня Апокалипсис (конец света) громко стучится в нашу дверь. Стучится ядерной войной, биохимическим оружием, искусственным интеллектом, стучится всеми этими мобильниками с маленькими мёртво мерцающими экранами. Шум, стук победный, грохот всех этих плодов прогресса, мешает услышать вечный призыв Бога на духовный пир (иудеи и Запад в своё время не услышали этот призыв); мешает этот шум прогресса услышать Чеховского человека с молоточком, напоминающего каждому о любви к другим людям, к несчастным…
Но, всё же я верю: мы, русские, опять отодвинем Конец Света. Мы же не с французами, не с немцами воевали, мы отодвигали Апокалипсис, Конец Света. Мы безбожную тьму Западную, человеконенавистническую, отодвигали. Сегодня на полях сражений на Украине это происходит, наверно, в последний раз. Мы все время воюем с сатанинским Западом. Если нас, русских, победят, тогда Господь Иисус Христос второй раз явится на Землю и будет Конец Света. Потому Западу надо бы не воевать с нами, не стараться нас уничтожить, а надо молиться, чтобы мы их победили… Тогда они ещё поживут и может быть очистятся от скверны. Но я верю, что и сегодня мы отодвинем Апокалипсис. Люди Божьи у нас ещё не перевелись. Недавно наш добрый друг Лидия Дмитриевна (в девичестве Кугушева), потомок славной фамилии князей Кугушевых, но главное, она - потомок духовных чад святителя Феофана Затворника Вышенского. У её бабушки и дедушки путевождём был этот великий русский святой. Он написал к Кугушевым несколько писем. Благодаря его водительству три поколения князей Кугушевых сумели переплыть без духовных потерь бурное житейское море России в 20 веке. Моя жена Марина филолог-текстолог, подготовила эти письма и издала книгу. Смею сказать, одну из лучших для семейного чтения «Письма с Выши». Святитель Феофан подвизался в Вышенском монастыре. На слух название книги воспринимается как «Письма свыше». Да так оно и есть.
Чувствую, что и нас с женой святой взял под своё крыло. Под влиянием его писательских трудов я написал эссе «Поучение жене». Я многому у него научился на литературной ниве, и, надеюсь, не только на ней.
И потомков князей Кугушевых святитель Феофан не оставил своим попечением. Недавно внук Лидии Дмитриевны Никита спросил: «Что такое Апокалипсис?» Она была потрясена – далеко не все взрослые могут выговорить это слово, а тут четырёхлетний мальчишка. Как такое ребёнку объяснить?! Но быстро собралась с мыслями – она ведь потомок духовных чад святителя Феофана, одного из лучших духовных писателей, мыслителей. Он умел проще, чем кто-либо на всём белом свете объяснить самое сложное. Так умел объяснить, что всем становилось понятно. Спросила внука: «Ты видел в храме большую книгу?» Он кивнул. Конечно мальчик видел главную книгу жизни – «Священное писание» – он часто с бабушкой в храме бывает. Лидия Дмитриевна продолжила: «Там написано, что первые люди на земле жили в райском саду, но согрешили, и Бог отнял у них земной рай. С тех пор людям надо много постараться, чтобы попасть в рай небесный». Не по годам умный внук спросил: «А теперь к делу. Как туда попасть?» Конечно, это сказались, не пропали даром, уроки святителя Феофана, преподанные в письмах предкам Никиты. Не сомневаюсь, Лидия Дмитриевна сумела рассказать внуку как попасть в Царство Небесное. Когда она заходит в комнату или даже в большой зал, я, не видя её, спиной, сердцем чувствую – это вошла Лидия Дмитриевна. Она приносит с собой смиренную тишину. Все вокруг сразу примолкают. Не только я проникаюсь её тишиной. Пусть Лидия Дмитриевна не обижается на меня за добрые слова о ней – я ведь не её превозношу, а отдаю дань уважения святителю Феофану и его духовным чадам, её славным предкам князьям Кугушевым.
+ + +
Мой любимый двоюродный дядя Митя, Дмитрий Андреевич Батурин, фронтовик Великой Отечественной, кавалер ордена «Славы» и медали «За Отвагу», прекрасно проживший почти всю жизнь в лесу безо всяких удобств цивилизации, когда ему кто-нибудь говорил, мол, ты при твоих талантах, при такой голове, мог бы далеко пойти, в ответ отшучивался: «Лишь бы был хороший человек.» Моя мама Мария Георгиевна Жиракова, одна, без рано умершего мужа, «ростила» четверых детей, и дядя Митя бесплатно снабжал нас дровами. У нас в суровом Забайкалье дрова называют «вторым хлебом». На родственных застольях мама, очень благодарная своему братанчику (так она его ласково называла), старалась усадить его на почётное место в центре стола, но он отказывался и притулялся где-нибудь с краю, чтобы в случае нужды помочь маме принести какое-нибудь блюдо, подбросить в печку поленьев, открыть бутылку вина, да мало ли дел у хозяйки на празднике. Ей самой и присесть-то некогда.
Думаю, дядя Митя не только нас снабжал дровами. Когда его долго не видели в нашем селе Мухоршибирь, то люди не просто говорили, что он на лесозаготовках, а с уважением восклицали: «Батура даёт кубатуру».
Надо нам раздуть огонь наших дорогих предков крестьян, пока он совсем не погас под золой. Надо нам держать равнение на дядю Митю, на бабу Нину, на Василису, держать равнение на наших воинов с передовой, и всё у нас будет ладно и красиво. Всё будет слава Богу! Тогда никакой искусственный интеллект, никакая «цифра» нам не страшны. Не смогут они стереть из нашей памяти, из нашего сердца чудесные крестьянско-христианские мотивы… Не смогут!
Обнимаю сердцем,
Ваш Сергей Щербаков, д. Старово-Смолино