
Моя служба в Красной Армии началась в январе 1944 года в 27-м учебном автомобильном полку, готовившем водителей грузовых машин марки ЗИС-5 и «Студебеккер».
Учебный полк был дислоцирован в посёлке Измайлово Ульяновской области, рядом со станцией Барыш. Здесь мы и принимали воинскую присягу и три месяца проходили службу перед отправкой на фронт. Жили в казармах: до революции, судя по всему, это была фабрика, а с началом Великой Отечественной её перепрофилировали под военный городок.
В седьмой роте я был почтальоном и в Измайлово ходил часто, а потому носил в часть не только письма, но ещё и картофельные лепёшки. Товарищи поручили мне попутно заглядывать на местный рынок. Каждая такая шанежка стоила десять рублей, на них в основном и шло солдатское жалованье. Что и говорить, питание в полку было неважным, кормили зачастую похлёбкой из чечевицы, и многие из нас мечтали, чтобы учёба закончилась как можно скорей. К слову сказать, сто человек в нашем полку написали рапорт о досрочной отправке на фронт. Наш комбат, который в начале войны партизанил и в полку ходил в эффектной бурке, как легендарный Ковпак, рвение бойцов оценил и не стал им препятствовать. В частности, и мне, поскольку по большинству предметов у меня всё было в полном порядке. А теория проверятся практикой…
Время службы в 27-м учебном автомобильном полку — это очень важный для меня этап, здесь я овладел основами той профессии, которая потом стала делом всей жизни. Шофёром я служил в Красной Армии, шофёром был и на «гражданке», вплоть до выхода на заслуженный отдых.
Нас в Измайлово готовили основательно, старались в кратчайший срок сделать из молодых красноармейцев, ещё не получивших первое «боевое крещение», профессионалов, столь нужных фронту. Станцию Барыш и посёлок Измайлово связывала дощатая дорога, «ДРД», как мы её называли, на ней-то и шли практические занятия по вождению. Слева и справа — болота, топь: чуть зазевался, немного не рассчитал, не выверил свой маршрут, грузовик тут же передними колёсами оказывался в трясине.
Помимо профессиональной натаски каждое воскресенье у нас проходила тренировка на выносливость. В дубовой роще, которая находилась за околицей Измайлово, полк заготавливал дрова для котельной, а увесистые кряжи каждый из нас взваливал на плечо и тащил на себе в расположение части. Расстояние примерно с километр. Мы хоть и гадали, зачем совершать такие «прогулки», когда в полку есть машины, но помалкивали. Уже потом, на фронте, говорили спасибо командирам, помнившим завет великого Суворова: «Тяжело в ученье — легко в бою!»
Дельное наставление помкомвзвода, старшего сержанта Орехова, фронтовика, имевшего боевые награды и ранения, лично мне здорово пригодился. Он, как бывалый человек, рекомендовал брать «Студебеккер» только тот, у которого спереди имелась лебёдка. Ох, и вспомнил же я своего наставника добрым словом в период операции «Багратион»! Дороги Белоруссии для моей машины, оснащённой спасительным стометровым тросом, всегда были преодолимы.
Сапёры расчищают дорогу от мин и проволочных заграждений. По дороге едет «Студебеккер». Фото военкора Виктора Тёмина
Когда началась операция «Багратион, я служил шофёром «Студебеккера» в составе 18-й инженерно-сапёрной бригады генерал-майора Салминова (2-я танковая армия, 1-й Белорусский фронт). Участвовал в освобождении многих белорусских городов и сёл. Сначала на Бобруйском направлении, а потом и на Брестско-Люблинском, по которым двигалась наша армия.
Из тех далёких событий навсегда врезались в память бои под городом Новогрудок. Чтобы наши танки смогли выйти на оперативный простор и внезапно обрушиться на врага, сапёрам пришлось мостить заболоченный участок протяжённостью в несколько километров.
Когда переправу соорудили, уже ночью наш генерал первым шёл по настилу, показывая дорогу танкистам. Настоящий был командир, суворовская жилка, всегда заботился о солдатах!
Участие в операции «Багратион» мне особенно памятно ещё и потому, что 28 июня 1944 года, то есть уже почти через неделю после масштабного наступления нескольких фронтов, мне исполнилось восемнадцать лет. Всё-таки какой это славный возраст, возраст совершеннолетия, когда всё у тебя молодо, ты полон сил и память держит каждую деталь! Может, поэтому перед глазами у меня и моих ровесников вечно будут оживать события тех далёких дней, того давнего прошлого, которое всегда с нами, каким бы страшным оно порой ни казалось…
Есть и ещё один немаловажный момент: в той же самой 2-й танковой армии, которая вскоре стала гвардейской, сражались два моих племянника — Николай и Александр Целищевы. Первый призывался в качестве военного врача, дослужился до капитана медицинской службы, а второй был техником в лётных частях. Я горжусь тем, что три «хватских» вятских парня, живших до войны в одной деревне Аксёново, на одном дворе, и в меру своих сил и возможностей били фашистского зверя, не жалея своих жизней, чтобы навсегда изгнать его с белорусской земли.
Что там говорить, нашему брату на фронте приходилось особенно трудно, ведь именно сапёр шёл первым (впереди пехоты, впереди танков). Наравне со стрелковыми подразделениями бойцы нашей бригады ещё и вели борьбу с немцами, уничтожали пехоту, истребляли вражеских снайперов, выжидавших в засаде свою жертву, и с особенной осторожностью вели разминирование освобождённых городов и сёл. Тут уж без солдатской смекалки — никуда! Помню, как, входя в один из населённых пунктов, наш командир отделения старший сержант Савелий Сергеевич Вотинцев обратил пристальное внимание на разрушенный немецкий аэродром. Шесть бойцов поняли своего командира без лишних слов: бензобаки! Ведь если снять с вражеского самолёта пуленепробиваемую резину, топливо нашего трёхосного вездехода будет надёжно защищено…
И вот я уже направил «Студебеккер» прямиком на взлётное поле. Эта резина на двух бензобаках не раз спасала нашу машину и в Польше, и в Восточной Пруссии, и в логове врага — Берлине, который 2-й танковой армии под командованием маршала Богданова тоже довелось штурмовать.
Прорываясь из гигантского белорусского «котла», немцы сражались отчаянно, готовые в любой момент поймать наших солдат на ошибках, а на войне они неизбежны. Помню, как при наведении понтонной переправы на одной из рек (кажется, это была Припять, могу ошибиться), над нами сначала кружила «рама», а потом в какие-то считанные минуты, точно коршуны, тут же налетели «мессеры»; переправу хоть и не разрушили, но под бомбёжкой погибли восемь наших сапёров. Потери в бригаде в ходе исторического наступления, конечно, были, и только в Польше мы получили желанное пополнение.
Пόтом и кровью десятков тысяч бойцов Красной Армии полита многострадальная земля Белоруссии, многое помнят её леса — тёмные, пихтовые, укрывавшие в своих пущах отряды партизан!
Местное население, мужская половина которого из лесов возвращалась в свои деревни и сёла, нас, бойцов Красной Армии, встречало со слезами радости на глазах. Этого момента мне никогда не забыть!
Иван ЦЕЛИЩЕВ (1926-2020), фронтовой шофёр, участник освобождения Белоруссии и штурма Кёнигсберга, кавалер ордена Красной Звезды
Красноярск
Целищев Иван Алексеевич (1926-2020) — красноярский краевед, ветеран Великой Отечественной войны. В шестнадцать лет, приписав себе лишний год, отправился добровольцем на фронт.
Участвовал в освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, штурмовал Кёнигсберг и Берлин, кавалер ордена Красной Звезды. Как участник операции «Багратион», был награждён юбилейными наградами Республики Беларусь, регулярно получал благодарности и письма от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
(Литературная обработка Николая ЮРЛОВА)







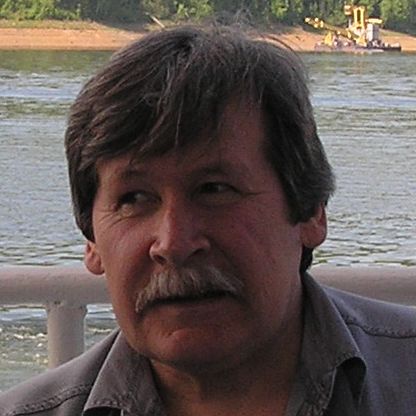






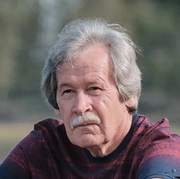
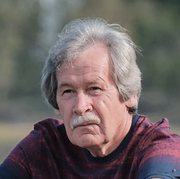









.jpg)



