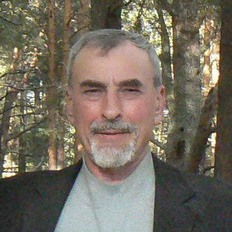***
Полковник уходил в иной мир неторопливо – то забывался совсем, то возвращался в сознание. На стуле около дивана висел парадный китель с двух сторон украшенный наградами. Иногда, отрываясь от затягивающей в себя темноты, Александр Николаевич бросал взгляд на медали и ордена и хрипло бормотал: «Подайте Балерину, подведите Балерину…».
Родственники, стоявшие рядом, переглядывались. Никто из них не мог понять, откуда и почему их отец и дедушка перед смертью вспоминал какую-то балерину...
I
… Пахло гарью, порохом, не хватало воздуха, першило в горле.
Остановиться и передохнуть - нельзя: приказ занять позиции в Берлине. Надо идти, не сворачивая – прямо, только прямо. Бойцы всё терпели, подогревая себя азартом предстоящего штурма логова Гитлера.
Добрались, наконец, до гадкой твари!
С настроем на праведную месть врагу за то, что принёс русским людям страдания и жестокое лихолетье, шагал в строю и старшина Савинов из далёкой от Германии вологодской глубинки.
Друг за другом, охватывая широкий плацдарм, подразделения и службы 207 дивизии подтягивались к намеченным целям.
На днях, 5 апреля, солдаты и офицеры узнали, что их дивизии присвоили почётное звание «Померанская». Чуть позже её наградили орденом А.В. Суворова - великого полководца и Генералиссимуса.
Не с неба упали почести дивизии, а лишний раз подтвердили мужество, доблесть, обильно пролитую русскую кровь уже на земле немецкой. Сильно укреплённую оборону, а её фрицы возводили не один год, казалось, не взять ни с воздуха, ни с суши. А войска 207 дивизии одолели неприступные линии – бетонные дзоты и доты, укреплённые командные пункты, блиндажи, посты наблюдений. Организуя атаку за атакой, батальоны овладели населенными пунктами Бервальде, Бург-Штаргард, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фраевальде, Шифельбайн, Регенвальде, и Керлин…
Десять городов пали под натиском Красной армии…
Теперь шли по окраине столицы фашистов. Она напоминала огромную головешку, выхваченную из костра. Дымили кварталы, небо озаряли пожары. Гул, то стихающий, то нарастающий давил на ушные перепонки. Чувствовал нудное гудение и Александр Савинов, старшина. Ему хотелось заткнуть уши. Но чем? Под рукой ничего подходящего…
В батарее, где он, выйдя из госпиталя, воевал уже третий год, Савинова любили не только за храбрость. (В батарее было тяжёлых 120-тимиллиметровых минометов). Его не видели унылым или хмурым – всё с улыбкой, всё с шуткой-прибауткой да острым словцом. Умелец на все руки, он часто своей смекалкой выручал в разведке, на батарее, выполняя приказы комбата…
Ещё памятны бои в Польше, где 12 января 1945 года войска 2-го Украинского фронта окружили большую группировку фашистов и приступили к её ликвидации. Масштабная операция получила название «Висло-Одерская». Минометная батарея готовила удары по скоплениям вражеской силы. От умения Савинова, наводчика, личной его меткости, быстрой реакции зависел также успех боя, как и от действий любого бойца и командира, участвовавших в сражении.
… На позиции заглянул лейтенант Алексей Заварыгин, исполнявший обязанности командира батареи.
- Товарищ старшина, ты знаком со стереотрубой? – подошёл он к Савинову.
- Так точно, товарищ комбат, знаком! - подтвердил боец.
- Тогда пойдём на наблюдательный пункт. Надо пристрелять цели до начала артподготовки ...
Старшина внимательно следил, как чертил расчеты комбат.
- Вы не так делаете, товарищ лейтенант, - набрался смелости Саша. - Надо от другого рубежа…
- Тогда поручаю это тебе, - сказал командир.
Саша встал за прибор и принялся заносить на лист пометки.
Вскоре по его расчётам попробовали пристрелку.
После третьего удара по немцам на позицию прибежал капитан Василий Райда, начальник артиллерии 598 полка 3-й Ударной армии. С ходу замахал: мол, хватит, хватит, кончайте, ребята…
- Молодец, лейтенант, - похвалил начальник. - Я смотрел у себя, мины летят прямо в окопы к немцам. Но больше не стреляйте, иначе они сменят позиции.
- Это не я молодец, а старшина, - комбат показал на Сашу, - он рассчитывал…
Рано утром миномётчики уничтожили все цели противника.
За бои на Вислинском плацдарме Савинова представили к ордену Отечественной войны 2-й степени.
А вот его орден Славы 3-й степени где-то затерялся. Это отдельная история. Сашу избрали комсоргом батальона. В тяжёлом бою он пять раз поднимал бойцов в атаку. На шестой раз, когда вёл товарищей за собой, упал – пуля навылет прошила ногу. По дороге в медсанбат с ним в повозке лежал лейтенант Алимбаев, тоже раненый в ногу. От него Саша и узнал, что представлен к награде. Увы, до тылового госпиталя в Тамбове, где лечили Савинова, орден не дошёл…
II
Сашу будто бритвой резанул вопль: «Братцы, умираю…».
Пуля фрица уложила очередного бойца.
Дивизия брала квартал за кварталом с большими потерями – немцы, отступая к центру Берлина, отчаянно сопротивлялись. Красноармейцы шли буквально по метру от дома к дому, ломая их тупую обречённость. Да, исход войны уже очевиден, вот-вот долгожданный конец, а тут смерть забирала закалённых и надёжных.
Часть батальона заняла дом ближе к центру, но дальше двигаться не смогла – немцы простреливали окна, двери подъездов…
Кое-кто роптал: мол, лучше переждать, пусть фашисты выкинут белый флаг. Хотя до цели – захвата театра Кроль-опера – оставалось чуть больше километра.
Как его преодолеть?
Здание Кроль-оперы заменяло Рейхстаг, где заседали гитлеровские депутаты. Почему в нём? Рейхстаг пострадал от пожара ещё до начала Второй мировой войны. А после, в ходе её, налёты авиации союзников сильно разрушили здание, хотя большая часть кровли уцелела. До него от оперного театра было рукой подать.
Понимая настрой солдат, Алексей Заварыгин объявил батарее «привал». Назначил особую группу, её задача - определить дома и переулки, где укрепились фашисты, минами уничтожить наверняка. Савинова тоже включили в неё. Когда группа отошла от батареи и немного освоилась на новом месте, Саша отправился на наблюдательный пункт, откуда предстояло определить цели миномётных ударов.
… Хоть смог, хоть гарь, а в воздухе всё же пахло весной. Ощущение весны пробудило в Саше ворох воспоминаний. Будто в яви, увидел родное Жилино - вблизи Погореловского тракта, что вёл в старинную Тотьму. Красивая деревенька, лежащая калачиком на берегу речушки. А у той речки - зацветающие высокие раскидистые ивы. К ним отец Андриан везёт на санях, ещё по снегу, пчелиные ульи. Мёд с пушистых цветов ивняка – первый, вкуснее всего…
У Андриана и супруги Ольги – девять сыновей, все – на войне. Саша младший - рождением с 25-го года. Этот год обошла первая всеобщая мобилизация, посчитали, что рано ставить юношей под ружьё. Но с конца 1942 года до конца 1943 года ситуация на фронтах, особенно - на Сталинградском, Ржевском и Минском направлениях, сильно осложнилась. Комитет Государственной Обороны принял решение призывать и тех, кто родился в 1925-м году. Саше Савинову в сентябре 42-го стукнуло 17 лет. А уже в январе 43-го его направили в Череповец, там по ускоренной программе готовили младших офицеров. Учёбу полностью не удалось пройти. Курсантов, не присвоив звание, перебросили в 703 полк 213-й дивизии Степного фронта. Новички с ходу попали в страшный бой- переделку – от батальона осталось меньше роты…
Из писем, что доходили на фронт из деревни Жилино, Саша знал, шесть родных братьев полегли в сражениях - кто где.
А как сам-то выжил? Чудом!
… Он вернулся с наблюдательного пункта. В группе, пока отсутствовал, случилась беда. Самолёт фашистов - последний или предпоследний – трудно сказать - пролетая над группой, сыпанул «картошку». Так в солдатском обиходе называли маленькие бомбочки. Издавая злое шипение, они взрывались, рассеиваясь множеством осколков. Четверо артиллеристов погибли сразу, а санинструктор Лида Новикова получила ранение в руку…
Савинов подошёл, откинул полог брезентовый, что укрывал убитых. И отпрянул, а после наклонился, опустился на колени:
- Как так-то? Как так-то? – тихо повторял он, не вытирая бежавших слёз.
Саша не выговаривал то, что гудело в мыслях: «Как так-то вернётся он на Родину без земляка? Без Ильи из деревни Шолохово, что на красивом берегу Кубенского озера? Сколько прошагал с ним рядом дорогами войны…».
Осталось только оплакивать.
III
«Конец - делу венец!» - учит русская поговорка. Иногда, правда, конец бывает тяжелей тяжёлого начала. Так получилось и в минометном батальоне – фашисты железно преградили дорогу. Нескольким ротам и ударной группе невозможно было и на шаг пройти к Рейхстагу.
Вот бы ударить всей батареей по немцам! Но батарея осталась сзади, где-то за восемьсот метров. Тогда Савинову приказали дойти до неё, объяснить, почему захлебнулось наступление.
В предрассветной мгле Саша, стараясь не выдать себя, добрался до места, доложил обстановку комбату. И удачно вернулся в группу, то есть «установил связь». Это было ещё полдела. Вторая половина оказалась сложнее – протянуть провод к подъезду соседнего дома, поднять выше на этаж, чтобы оттуда наверняка передать точные данные о скоплении фашистов.
Риск большой: подъезды, окна, двери – всё простреливалось. Но идти надо – другого выбора нет.
Отдать приказ? А, может, кто захочет по своей воле! Уже ощущая сердцем великую Победу, никто не хотел просто погибнуть от пули врага в дымном, дурно пахнущем Берлине.
- Я пойду, добровольно, - повернулся связист батальона Виктор Шекуненко к командиру группы. – Разрешите!
Тот не сразу ответил. Он глядел на Виктора, будто взвешивал «за» и «против». Этого бойца в батальоне любили, ценили - в любом бою Виктор не подводил. И тут, если что…
- Разрешаю, но будь острожен, - наконец, согласился командир.
Связист улыбнулся, достал сигарету.
- Перед прыжком перекурю, - присел на корточки.
После Виктор взял автомат, закинул на плечо катушку с проводом, который тянулся у него за спиной, и, глубоко вздохнув, быстро побежал. Вот он уже у двери, вот уже схватился за ручку, но пулёметная очередь прошила его спину…
- Какого парня потеряли! - командир зло, смачно выругался.
Тягостная минута длилась нескончаемо.
- Давайте, я на велосипеде проскочу, - предложил разведчик Василий Бобков. – Я – везучий!
«Во народ! – мелькнуло в голове старшего. – Я же не приказывал, и этот сам…».
Василий разогнался на велосипеде, но уже у подъезда соскочить с него не успел – фашисты сбили и его.
Что-то много за день потерь, если прибавить убитых и раненых от «картошки».
Савинову пришла дерзкая мысль – привлечь добрую кобылку по кличке Балерина. А что? Может, удастся обмануть фрицев. Лошадь на батарее была такой же необходимой, как и снаряды – что-то подвезти, что-то подтащить… Привели под уздцы Балерину. Нашлось и старое седло, без него не проскачешь, он умело оседлал кобылку. После привязал к седлу провод, натянул удила, вскочил в седло и каблуками пнул в бока Балерины.
Лошадка резво побежала, а старшину охватил жар, будто в бане. У дверей подъезда он почувствовал, как Балерина оседала, понял, что её ранили. Он изогнулся, изобразил что-то похожее на сальдо, ударился об асфальт и потерял сознание. Немцы посчитали, что очередной перебежчик мёртвый. Это и спасло старшину. Придя в себя, он рванул дверь и заскочил в подъезд. Следом в дверь ударили автоматные очереди.
Но поздно!
Старшина размотал катушку, заработала связь, данные полетели на наблюдательный пункт батареи.
- По целям фугасными - огонь! - скомандовал лейтенант Заварыгин.
Шквал тяжёлых мин обрушился на врагов. Чёрный дым повалил из окон, дверей, подвалов. Немцы выползали, как тараканы, их расстреливали.
Дорогу до здания Кроль-оперы батальон расчистил.
Подойти к Кролю, а, значит, и к Рейхстагу оказалось непросто. Перед зданиями зиял противотанковый ров, заполненный водой, его предстояло форсировать. За рвом, в развалинах домов, укрывались до трёх тысяч отборных солдат и офицеров, рядом - «группы фолькштурма» – «живые смертники». Их поддерживали несколько зениток, нацеленных бить прямой наводкой, и пять артиллерийских батарей, вокруг тянулись ряды траншей, словом – серьёзная крепость. Да, сила-то, конечно, большая…
Но уже ничто не могло остановить яростный натиск подразделений 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Константиновича Жукова. Они устремились с разных сторон к Рейхстагу, сметая на своём пути гитлеровцев вместе с многочисленными укреплениями.
Утром 30 апреля войска 150-й дивизии приступили к штурму последнего бастиона фашизма. Ответный огонь немцев был шквальным, пришлось вести штурм в несколько этапов. К концу дня разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария, поддерживаемые группой бойцов лейтенанта Алексея Береста, установили штурмовое знамя 3-й Ударной армии над самым высоким куполом Рейхстага.
Это была «последняя «точка» в великой битве!
Сбылось пожелание И.В.Сталина, высказанное 6 ноября 1944 года - «добить фашистского зверя в его логовое и водрузить над Берлином Знамя Победы».
… В 2 часа ночи в батальон пришёл майор Серёгин и громко закричал: «Ребята, артиллеристы – все ко мне. Поздравляю вас. Война кончилась!».
Все повыскакивали на улицу, от радости палили из стволов в чёрное небо.
Саша, перенёсший за тяжелый день и смерть земляка-друга, и собственную краткую смерть, стоял грустный. Он почему-то вспомнил Балерину, и стало так жалко её…
14 апреля 2025 г.