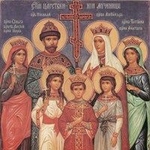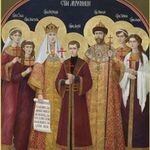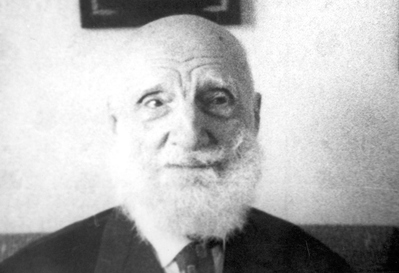
Часть 1
…Речь пойдёт об очень известном русском монархисте, одном из ключевых фигурантов тёмной истории с отречением от престола последнего императора Российской империи Николая II – Василии Витальевиче Шульгине. К бурной деятельности наших славных отечественных спецслужб он имел, вне всякого сомнения, самое непосредственное отношение, правда, не вполне понятно – с какой именно стороны и в каком конкретно качестве? Я имею в виду, конечно же, его прямую причастность к знаменитой долговременной чекистской специальной операции, ныне всем известной под названием «Трест». Которая была спланирована и проведена органами ГПУ-ОГПУ в 30-х гг. ХХ века на территории целого ряда европейских стран, в частности, России (СССР), Польши, Финляндии, Болгарии, Сербии, Франции, Бельгии, Германии, причём главная, ключевая направленность этой операции остаётся не вполне ясной до сих пор. Буквально все основные руководители и наиболее активные участники этой операции сгинули в топке сталинских репрессий, но причина столь трагического финала так и не была до конца прояснена официальными историками специальных служб.
В.В. Шульгин – личность прелюбопытнейшая с любой стороны и с любого ракурса, с каких на него ни посмотреть, фигура очень и очень, мягко говоря, «неоднозначная», как сегодня стало модным говорить. С одного боку – вечно живой и немеркнущий символ российского монархизма, один из столпов идеологов «белого движения», виднейший и наиболее заметный парламентский говорун почти во всех составах дореволюционных Дум Российской империи, знамя русского национализма, стойкий, убеждённый и идейный антисемит профессорско-интеллигентского толка (точнее, юдофоб, как он сам себя любил характеризовать). Более того – «русский фашист», согласно его собственному признанию, причём отчетливо муссолиниевской идейной направленности, когда будущим национал-социализмом Адольфа Гитлера еще и не пахло на белом свете. С другой стороны – типичный лицемер, соглашатель, привыкший строить всю свою жизнь по формуле: «я с теми, кто сегодня победитель» (опять же – это его собственное откровенное признание).
В результате подобной необычайной «политической гибкости» он после длительного сидения, причем не в какой-то каталажке, а в знаменитом Владимирском централе, в конечном итоге оказался в зале Кремлевского Дворца съездов среди почетных гостей одного из «съездов победителей» – хрущёвского ХХII съезда КПСС 1961 года. Который, как известно, подвёл жирную черту под всем основным массивом политического наследия сталинского периода развития страны и провозгласил наступление эры «будущего жития нынешнего поколения советских людей при коммунизме». Но главной в его политической жизни всё же была та страница, когда он, «прогрессивный монархист», стал вместе с другим видным «думцем» – «октябристом» А.Гучковым – главным действующим лицом того фарса, который навечно остался в нашей отечественной истории под названием «отречение от престола» последнего российского императора Николая II. Ну, ладно, Гучков, один из широко известных и общепризнанных лидеров международного масонского заговора с целью свержения российского царя, был его личным врагом, можно сказать, но Шульгин-то какую роль играл во всем этом балагане с «отречением»?
Его основное литературно-публицистическое произведение – книга «Дни» – была издана в СССР в ленинградском издательстве «Прибой» еще в 1925 года в разделе «Библиотека русской революции и гражданской войны», причём, по бытующей ныне легенде, чуть ли не по личному указанию самого В.И. Ленина. До этого она была опубликована в журнале «Русская мысль», №№1-2 в 1922 году, а затем выпущена издательством М.А. Суворина в Белграде в 1925 году.
Тот, кто читал эту книгу, легко мог подметить, что в ней наиболее выпукло отражены всего лишь три основных исторических эпизода отечественной истории: массовые беспорядки и безуспешная попытка устроить еврейский погром в Киеве в 1905 году, эпоха «распутинщины» 1916 года и очень подробное, почти детальное описание процедуры отречения Николая II от престола в феврале-марте 1917 года. Всё остальное – не более, чем гарнир к основному блюду на выбор и на вкус потребителя. Если судить с позиций наших сегодняшних совокупных представлений и знаний об этих исторических событиях, во всех трех упомянутых мизансценах В.В. Шульгин объективно сыграл роль «полезного буржуазного идиота» согласно бессмертной формуле, которую то ли по праву, то ли бездоказательно приписывают В.И. Ульянову (Ленину). Посмотрим объективно на описываемую автором ситуацию с самых разных сторон и попробуем сделать собственные, не навязанные никем выводы.
Допустим на минуту, что умирающему от прогрессирующей умственной болезни вождю мирового пролетариата действительно в 1923 году так уж и нечем было больше заняться, чтобы в условиях своего фактического отстранения от рычагов власти и управления страной, в перерывах между периодической «надиктовкой» дежурным стенографисткам Совнаркома и, одновременно, осведомительницам И.В. Сталина (Джугашвили) «Писем к съезду» и «программных статей для будущей горбачевской перестройки» (составивших, однако, ни много, ни мало содержание целого 45-го тома ПСС В.И. Ленина), у него еще оставалось какое-то свободное время, чтобы изучать книги рядового, в общем-то, российского эмигранта В.В. Шульгина.
А уж тем более давать по ним какие-то «руководящие указания» своему неформальному помощнику и личному секретарю В.Д. Бонч-Бруевичу (надо полагать, больно уж крупный и незаменимый специалист по «делу Бейлиса» был сей шляхтич, этнограф, управляющий делами Совнаркома и председатель Комитета по борьбе с погромами...). Так на кой же леший самому (!) Ульянову (Ленину) вообще сдался сей ржавый «осколок старого мира» – белоэмигрант Шульгин? Он что, выдающимся русским мыслителем был, вроде тех, которые по прихоти и злой воле вождя пролетариата отправились в 1922-1923 гг. в долгосрочное зарубежное путешествие аж на целых пяти «гуманитарных» (философских) пароходах? Но Василий Шульгин был далеко не Ильиным, не Бердяевым, не Сорокиным, не Булгаковым, не Кусковой, не Струве и даже не Бруцкусом – так себе, очевидные «печки-лавочки», очередной бытописатель «хроники текущих событий того периода», не более того.
Или, может быть, Ленина почему-то внезапно заинтересовали выводы небольшого публицистического очерка В.Шульгина под названием «1920 год», изданного в 1922 году в московском отделении Госиздательства, в котором якобы анализировались «причины краха белого движения»? Так ведь с точки зрения прикладной государственной политики сей публицистический труд – чушь полнейшая, детский сад, какая-то художественная «одесская баллада» в цветах красного бандита Котовского – белого бандита Стесселя, где единственный вразумительный сюжет касается размышлений несчастного отца о судьбе своего пропавшего на войне сына-добровольца.
Так зачем все же большевикам – ярым воинствующим ненавистникам «великорусского буржуазного шовинизма черносотенного оттенка» – столь остро понадобилось живое политическое присутствие в советской России бывшего видного «черносотенного думца» В.В.Шульгина, главного редактора и владельца достаточно популярной среди творческой интеллигенции газеты «Киевлянин»? Рискну осторожно предположить: по причине того, что сей исторический персонаж волею случая стал живым свидетелем «политического шоу» под названием «отречение от престола последнего российского царя», и на сем железобетонном основании он вполне свободно мог действовать в этом политическом спектакле по очень известной и широко распространённой среди практикующих юристов формуле: «Он врет, как свидетель!».
Давайте посмотрим на ситуацию марта 1917 года именно под этим методологическим углом подлинно научного исторического исследования. О том, что Николай II был фактически насильственно свергнут с престола российской империи совокупными стараниями объединенного «кубла» отечественного масонства в царской Государственной Думе и в предательской части военной верхушки командования фронтами действующей армии, где они тоже успели свить свое уютное гнездышко, я достаточно подробно писал в своих книгах «Кукловоды и марионетки» и «Зарубки на гриппозной сопатке» – вновь повторяться по сему позорному и постыдному сюжету не буду. Приведу для раздумий лишь одну цитату из книги «Дни» В.В. Шульгина.
«Через некоторое время Государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав:
- Вот текст.
Это были две или три четвертушки – такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке. Я стал пробегать его глазами, и волнение, и боль, и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать… Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают…
«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думой признали Мы за благо отречься от престола Государства Российского и сложить с себя верховную власть.
Не желая расстаться с любимым сыном нашим, Мы передаем наследие нашему брату, нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол Государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами Государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены. (в данном тексте нет фразы «принеся в том ненарушимую присягу»). Во имя горячо любимой Родины, призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний (нет – и) помочь ему, вместе с представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы.
Да поможет Господь Бог России. Николай».
Слова царского манифеста, что и говорить, действительно очень ёмкие, продуманные, и даже совершенно очевидно выстраданные им! Они воспринимаются читающими эти строки как яркие и мощными и по внутренней силе, и по высокой степени своего эмоционального воздействия. Однако давайте все же более подробно остановимся на этом ключевом эпизоде с отречением царя в изложении г-на Шульгина в свете всего того, что произошло с этим поистине эпохальным историческим документом в дальнейшем. Ибо в числе «100 раритетов российской государственности», экспонированных в 2018 году на выставке в Манеже в Москве, широкой публике был представлен именно тот самый знаменитый акт отречения Николая II от престола в пользу своего брата Михаила Александровича.
Попутно замечу – он экспонировался на выставке в единой документальной экспозиции с гектографической копией Беловежского соглашения от 8 декабря 1991 года. Оригинал которого, по многочисленным свидетельствам очевидцев тех событий, куда-то самым таинственным образом вдруг исчез. Вот изображение «царского манифеста», его без труда можно посмотреть в списке документальных источников на сайте «100 главных документов российской истории» в рамках совместного проекта Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества (РВИО).
И какие же вопросы тотчас возникают у любого мыслящего человека в этой связи? Их очень много, но основной из них следующий: а какова же достоверно подтверждённая история появления данного документа в фондах российских государственных архивов? Какой-то то непонятный «запечатанный пакет за №607» с «шифром» какого-то мифического Г.С. Старицкого, поступивший в Библиотеку академии наук еще в июле 1917 года научному руководителю рукописного отдела академику Всеволоду Измаиловичу Срезневскому при посредничестве академиков Котляревского и Дьяконова и при содействии старшего учёного хранителя библиотеки Модзалевского… Когда в 1926 году Академии наук СССР затеяла реорганизацию архивного дела в академии, в частности устроила перераспределение архивных фондов между вновь создаваемыми «специальными» академическими хранилищами, Срезневский, не следует этого забывать, активно выступал против передачи большей части бывших фондов революционной литературы в созданный Институт В.И. Ленина.
Между прочим, занимался этим «богоугодным делом» в том числе и небезызвестный доктор исторических наук этнограф В.Д. Бонч-Бруевич, которого я уже неоднократно упоминал по самым различным поводам. Знаете сколько у создателя теории научного атеизма было «литературных псевдонимов»? Целых тридцать. А помните знаменитую в СССР книгу «Ленин и дети»? Это его наиболее яркое и запоминающееся произведение.
История с «перераспределением архивных фондов, которые, к тому же, до той поры относились к ведению Наркомпроса – одного из основных «рассадников и заповедников троцкизма» в стране, возглавляемого в те времена А.В. Луначарским, Н.К. Крупской и знаменитым «академиком от коммунистической истории», редактором журнала «Красный архивист» М.Н. Покровским – это классика жанра искусства изъятия из государственных и ведомственных архивов «ненужных» и «вброса» в научный оборот «нужных» исторических артефактов. Ну, прямо таки повторение знаменитой истории с внезапно найденными «оригиналами» секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа, хранившихся с какого-то времени в пакете №34 «Особой папки» VI сектора Общего отдела ЦК КПСС и дождавшихся, наконец-то, своего первооткрывателя академика А.Н. Яковлева…
Но, может быть, речь всё же шла о моем земляке – полтавском губернаторе во времена А.И. Деникина, присяжном поверенном, статском советнике Георгие Егоровиче Старицком, воспитаннике 50-го выпуска (1889 г.) Императорского Училища Правоведения, который в 1920 году эмигрировал в Софию и который являлся близким родственником академика В.И. Вернадского, имевшего поместье в селе Шишаки вблизи родового гнезда Н.В. Гоголя? Он, между прочим, обучался в этом престижном училище вместе с принцем Петром Александровичем Ольденбургским и флигель-адъютантом ЕИВ, полковником лейб-гвардии Преображенского полка Кириллом Анатольевичем Нарышкиным, который в юношеские годы дружил с будущим императором Николаем II.
Вас это ни на какие мысли не наводит? К.А. Нарышкин с декабря 1916 года в чине генерал-майора возглавлял военно-походную канцелярию при Императорской Главной Квартире, одновременно был Главой военного управления и полевого суда Его Императорского Величества, в июне 1917 года он выехал в Киев и вполне мог перед отъездом передать своему бывшему сокурснику Г.Е. Старицкому столь важный исторический документ, коим является акт отречения от престола Николая II.
Вот что писал Шульгин в своей книге: «Около часу ночи, а может быть двух, принесли второй экземпляр отречения. Оба экземпляра были подписаны Государем. Их судьба, насколько я знаю, такова. Один экземпляр мы с Гучковым тогда же оставили генералу Рузскому. Этот экземпляр хранился у его начальника штаба, генерала Данилова. В апреле месяце 1917 года этот экземпляр был доставлен генералом Даниловым главе Временного правительства князю Львову. Другой экземпляр мы повезли с Гучковым в Петроград. Впрочем, обгоняя нас, текст отречения побежал по прямому проводу и был известен в Петрограде ночью же...». Уже не вполне понятно: кому и для каких целей оказался столь нужным «другой», также подписанный царем Николаем экземпляр отречения – для отчета по командировке Гучкова и Шульгина на экстраординарном собрании питерских масонов, что ли? И где он, спрашивается, сегодня хранится? Не в Чарлстоне ли случайно или в «Доме Храма» в Вашингтоне (США), где стараниями масонов сформирована одна из богатейших в мире библиотек оригиналов древних актов?
Остановимся на вопросе совершенно очевидных странностей внешнего оформлении этого важнейшего государственного акта. Повторять чьи-то глупости и нелепости вслед за руководителем Федерального архивного агентства А.Н. Артизовым только потому, что он сегодня является очередным главой этого ведомства, я не намерен. С меня вполне достаточно многочисленных «художеств» его предшественников Пихоя и Мироненко. Ведь то, что он произнёс в своём интервью журналу «Родина» к 100-летию Октябрьской революции, вполне достаточно чтобы усомниться в его компетентности и как специалиста архивного дела и как ученого: «С точки зрения источниковедения, которое посвящено методам и приемам работы с историческими документами, подпись – один из важнейших реквизитов документа. И не имеет значения, чем она сделана (ручкой или карандашом), какими чернилами, какого цвета и с какими ошибками. Петр Великий был умнейший человек, но Бог не дал ему грамотности. В слове из пяти букв царь делал три ошибки. И что нам теперь в документах, которые он подписал, сомневаться?»
Да, именно так – сомневаться, причем всенепременно и в обязательном порядке. По заветам создателя метода радикального сомнения Рене Декарта, который говорил: «Никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с очевидностью». Иначе мы в истоках и причинах появления, к примеру, известной исторической фальшивки под названием «Завещание Петра Великого» не разберёмся никогда! А то, что данный вопрос далеко не праздный, а вполне прикладной, свидетельствует хотя бы следующий достаточно красноречивый факт. В 2019 году Российское историческое общество вместе со Сбербанком, РЖД, группой питерских историков из института истории РАН и ученых Высшей школы экономики запустили целый проект по изучению рукописей Петра Великого и для этого создали специальную IT-программу по распознаванию почерка Петра I в его рукописях. В которую, по сообщениям СМИ, уже загрузили свыше 10 тысяч документов, написанных первым российским императором!
Согласитесь, что столь внушительная цифра выглядит несколько странной на фоне утверждения главы Росархива о полной неграмотности царя… Неграмотный правитель вряд ли смог бы выпустить в свет столь потрясающий государственный акт, как этот Указа Петра I: «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим начальника не смущать». Это же поистине нынешняя универсальная формула всей системы управления в современных условиях: «Я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак»!
Главный научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук В.Лавров абсолютно правомерно поставил перед властями и обществом целей ряд недоуменных вопросов, которые дают все основания сомневаться в подлинности «акта отречения Николая», предоставленного на обозрение широкой публике. Да, само отречение было, это несомненно. А вот как отречение от престола императора Николая II и его преемника Михаила было документально, юридически оформлено и какова степень легитимности абдикационного акта, адресованного какому то «начальнику штаба» и зачем-то «контрассигнованного» бароном Фредериксом, пусть и далее сушит свои заплесневелые мозги яйцеголовая академическая публика!
Мне абсолютно безразлично, кто из их наиболее достойных представителей – Поклонская, Спицын или Пчелов – более прав, а кто более неправ в своих оценках. Официальная государственная экспертиза этого так называемого «царского манифеста» как подлинника государственного законодательного акта проведена не была – а посему, уважаемые академики и всякие прочие член-корры с докторами наук, гуляйте пока лесом, вяло переругиваясь друг с дружкой по поводу содержания и внешнего оформления очередной исторической… скажем осторожно так – нелепости и несуразности…
Сей основополагающий документ поступил, оказывается, в ГАРФ (точнее – в Госархив СССР) в составе архива Наркомата рабоче-крестьянской инспекции. Так, по крайней мере, излагает историю его появления в главном архивном хранилище страны его бывший глава доктор истории С.Мироненко. Уже необычайно любопытно. Почему, спрашивается, он находился не в составе архивных массивов ОГПУ, коль скоро им очень и очень плотно заинтересовались вначале питерские, а затем и московские чекисты? Которые не только открыли отдельное уголовное дело по статье 78 УК РСФСР против С.Ф. Платонова и его сотрудников по факту «сокрытия от советской власти документов в целях их использования для будущего монархического хозяина России», но не поленились в своё время созвать целую экспертную комиссию для подтверждения «подлинности» обнаруженных в Академии наук абдикационных документов Николая и Михаила Романовых?
Где тогда акт проведённой «научной экспертизы», доложенной почему-то не Сталину, Менжинскому, Ягоде или хотя бы тому же Кирову, а непосредственно большому специалисту по проблемам развития промышленности страны, председателю ВСНХ Г.К. (Серго) Орджоникидзе, который к тому времени еще даже полноправным членом Политбюро ЦК ВКП (б) не был? Где, наконец, обитается сегодня протокол переговоров Николая II c представителями Государственной Думы, составленный упоминавшимся мною ранее начальником походной канцелярии генералом Нарышкиным под названием «Протокол отречения» и каково его точное, а не приблизительное, описательное содержание?
Достоверно известно одно: никакого проекта царского манифеста А. И. Гучков и В. В. Шульгин с собой не привозили и Николаю II его не предъявляли, все это последующие исторические фантазии. Как сегодня хорошо известно, сохранившийся для истории текст был напечатан на обычном листе бумаги, хотя тот же Шульгин уверял, что манифест представлял собой «две или три четвертушки – такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке». Это, в частности, он утверждал на допросе в следственной комиссии: «Царь встал и ушёл в соседний вагон подписать акт. Приблизительно около четверти двенадцатого царь вновь вошёл в вагон — в руках он держал листочки небольшого формата. Он сказал: „Вот акт отречения, прочтите“». Описанные Шульгиным телеграфные «четвертушки» действительно использовались при написании Государем его телеграмм в Ставку.
То есть, В.В. Шульгин либо видел образцы таких телеграмм, либо ему специально их показывали, чтобы он знал, как выглядят царские телеграммы. Поэтому В. В. Шульгин столь правдоподобно и рассказывал всем об этих «четвертушках», поскольку не видел «манифеста» на отдельном листе большего формата и был вынужден, заявив о «четвертушках», «вспоминать» о них и дальше. Характерно, что после освобождения из тюремного заключения доживающий свой век в городе Владимир В.Шульгин решительно отказывался заново пересказывать эпизод отречения Николая II и всегда отправлял интересующихся к своей книге «Дни»! Из всех «участников событий 2 (15) марта 1917 г.» только А.И. Гучков на допросе ВЧСК дал описание манифеста, сходное с найденным в Академии наук СССР оригиналом. «Через час или полтора, Государь вернулся и передал мне бумажку, где на машинке был написан акт отречения и внизу подписано „Николай“».
Небезынтересно также, что в опубликованном сравнительно недавно камер-фурьерском журнале за 1917 г. имеется следующая запись, датированная 2 марта: «Сего числа прибыли в г. Псков представители Временного правительства, военный министр Гучков и член Государственной думы Шульгин, и в 9 часов 40 минут были приняты в Императорском поезде и доложили о происходящем в Петрограде революционном движении». Вот страница из этого журнала.
Однако из протоколов допроса чрезвычайной следственной комиссией самого А.И. Гучкова явствует, что он уезжал во Псков, еще не будучи назначенным военным министром Временного правительства. Не знали об этом назначении в Ставке и в штабе Северного фронта. Так, в 16 ч 50 мин 2 марта 1917 г. генерал Ю.Н. Данилов телеграфировал из Пскова генералу М.В.Алексееву, что «около 19 часов Его Величество примет члена Государственного Совета Гучкова и члена Государственной Думы Шульгина». А в 20 ч 48 мин того же дня тот же Данилов телеграфировал генералу Клембовскому, что «поезд с депутатами Гучковым и Шульгиным запаздывает». Да и телеграмму из Пскова от 2 марта А.И. Гучков подписал только своей фамилией, не указывая какой-либо должности. Поэтому дежурный делопроизводитель канцелярии, делавший в камер-фурьерском журнале запись от 2 марта 1917 г., никак не мог величать Гучкова «военным министром»! Скорее всего, «беловая» (вместо возможной «черновой») запись в этом журнале вполне могла быть оформленной «задним числом», а это уже наводит на самые различные размышления и предположения, в том числе и на возможность более поздней фальсификации документального источника информации.
Широкой читательской аудитории не очень детально, но все же достаточно хорошо известно, что задолго до начала широкомасштабного развертывания беспрерывной череды известных из истории СССР сталинских политических процессов 1934-1939 годов в Ленинграде получило старт так называемое «дело академиков», которое вначале было «архивным делом» или «делом историков». Его политическая направленность была совершенно очевидной: навести, наконец-то, настоящий «революционный большевистский порядок» в заповеднике либерального вольнодумства «гнилой русской интеллигенции» – в Российской академии наук (позднее Академии наук СССР). В общих чертах я описывал всю эту историю с грызней в стане первых советских академиков в статье «Геополитика – продажная девка капитализма?» на портале РНЛ, желающие могут ознакомиться самостоятельно.
В эпоху расцвета «советского диссидентства» на страницах «полузакрытой», как сейчас более принято говорить – «альтернативной» – отечественной истории появилось немало ярких фигур, Среди них следует особо выделить школьного учителя, выпускника литературного факультета Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена, очень дотошного, настырного и порой даже откровенно въедливого активиста общества «Мемориал» (недавно признанного в Российской Федерации НКО-иноагентом) Ф.Ф. Перчёнка. Он частенько публиковался за рубежом под псевдонимами И.Вознесенский, К.Громов, Б.Трофимов, Солодов, Р.Бах, Л.Крафт, Ф.Благовещенский и др., причем в основном специализировался на тематике репрессий ученых в СССР. Однако, как бы там ни было, его исследования по тематике «дела академиков» неизменно были достаточно информативными и, вне сомнения, заслуживали внимания специалистов-истриков.
Это были, в частности, фундаментальные статьи Ф.Ф. Перчёнка «Академия наук на «великом переломе» (журнал «Звенья. Исторический альманах. Выпуск.1. М., 1991) и «Дело Академии наук (журнал «Природа», 1991, №4). Среди использованных им источников следует также упомянуть «Академическое дело 1929-1931 гг. Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ, вып.1» и «Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова, СПб, 1993». Крайне важным во всех этих публикациях является попытка исследователей найти ответ на следующий принципиальный вопрос: что же явилось конкретным поводом к развертыванию достаточно рутинного для тех времен «академического дела» в чисто спецслужбистском плане, с привлечением обширных возможностей агентурно-осведомительской сети ОГПУ, да еще очевидно в духе упомянутой мною выше «концепции лжи и дезинформации Койре»? Думается, вот что.
В октябре 1929 года в ОГПУ поступила информация о том, что в Ленинграде в Библиотеке Академии наук «в тайне от советского руководства» хранятся подлинники документов об отречении от престола Николая Второго и его брата, а также часть материалов, непосредственно связанных с именем Ленина. Первоначальный импульс был задан работавшей тогда в Ленинграде комиссии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР по проверке работы аппарата Академии наук СССР, которую возглавлял Ю.П. Фигатнер. Он якобы через свои собственные неназванные источники (скорее всего, через заведующего I (русским) отделом БАН, профессора Военно-политической академии В.П. Викторова) выяснил, что Академия наук действительно располагала целым массивом документальных материалов, потенциально способных вызвать настоящий политический взрыв в СССР и за рубежом. Фигатнер молодец, гнида, сразу стал играть в четыре руки одновременно на двух конкурирующих роялях, за что позднее сполна поплатился и, по-видимому, горько пожалел. Вот что было отражено в его совместной с С.М. Кировым шифротелеграмме из Ленинграда в Москву.
«Агентурные (!) сведения подтвердились. В нешифрованном фонде библиотеки Академии Наук найдено: оригинал отречения Николая и Михаила, архив: департамента полиции, третьего департамента, канцелярии Николая, охранки, ЦК эсеров, кадетов, митрополита Стадницкого, особого совещания при Николае, военного министерства, казначейства, герцога Макленбург-Стрелицкого, 66 томов дневника Константина Романова – каждый том закрыт специальным замком. Всё это опечатано и охрана поставлена. В Пушкинском доме семь ящиков архива шефа корпуса жандармов Джунковского, часть архива Константина Романова и так далее. В Пушкинском доме опечатано два помещения с материалами. В Археографической комиссии найдено: доклад Николаю о войне и большой архив князя Михаила Николаевича. Опечатан шкаф с материалами. Завтра приступаю к подробной описи документов. Есть основания предполагать, что не всё ещё выявлено. Сообщите, направлять ли материалы в Москву. Считаем целесообразным создание специальной правительственной комиссии из трёх человек под председательством Фигатнера для рассмотрения несдачи материалов Академией Наук, это может помочь нам вскрыть очень многое. Кандидатов в члены комиссии представим дополнительно. Ждём указаний» (РГАНИ, ф. 3, оп. 33, д. 135).
Да, на мой взгляд, одних лишь архивов третьего департамента полиции и семи ящиков личного архива шефа жандармов Джунковского уже вполне достаточно для зарождения политической сенсации, а тут вдруг внезапно такое археологическое счастье ленинградским чекистам Сергея Мироновича с небес привалило!
Одновременно Фигатнер скрытно, в тайне от официального историка партии и куратора работы АН СССР от ЦК академика М. Покровского подготовил подробный отчет для доклада председателю Центральной контрольной комиссии ВКП(б) Г.К (Серго) Орджоникидзе. В четырёх разделах своего отчёта Фигатнер подробно перечислил самые крупные находки. Первый раздел он озаглавил «отречение Николая и Михаила». Там, в частности, утверждалось: «Отречение Николая и Михаила поступило в нешифрованный фонд Академии наук летом 1917 года от сенатора Старицкого и академика Дьяконова, который был назначен Временным Правительством сенатором. Хранились оба эти документа у заведующего нешифрованным фондом В.И. Срезневского. О хранении отречения знали академики Дьяконов, Шахматов, Соболевский, Никольский, Платонов, Ольденбург, проф. Рождественский, возможно и другие. В виду заявления академика Платонова, что имеется несколько вариантов отречения Николая и его предположения, что это может быть и не оригинал, мною, по согласованию с т.т. Петерсом и Аграновым, было созвано специальное совещание с участием академиков Ферсмана, Ольденбурга, Борисяк, проф. Никифорова, Щеголева, зам. зав. Ленинградским Отделом Центроархива, и специалистов по автографии. Изучение этой подписи продолжалось с 2 по 5 часов дня. Совещание единодушно установило, что это есть оригинал…» (РГАНИ, ф. 3, оп. 33, д. 135, л. 5).
Во втором разделе своего отчёта «14-я комната» Фигатнер рассказал о других важных находках в рукописи отделения Библиотеки Академии наук. «В 14-й комнате, – уточнил он, – нами найдены и изъяты: часть архива Департамента полиции; 3-го Департамента жандармского корпуса; Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей; архив ЦК кадетов, часть архива ЦК эсеров; материалы Петербургской охранки; архив Сватинова комиссара Временного Правительства, материал, по словам т. Агранова, имеющий чрезвычайно крупное значение в связи с возможностью установления целого ряда агентур охранки; архив митрополита Антона Старицкого (сейчас он в Соловках)…».
Третий раздел отчёта был посвящён находкам в Пушкинском доме, в частности, архиву бывшего шефа корпусов жандармов Джунковского. Об изъятых докладах штаба армии Николаю II Фигатнер рассказал в четвёртом разделе отчёта «Археографическая комиссия». Кроме того, Фигатнер сообщил о найденных его комиссией в Ленинграде еще десяти важных фондах. «Все эти материалы, – подчеркнул он, – опечатаны и находятся под охраной. Мною также опечатаны два подвала магазина нешифрованного фонда. По заявлению заведующего этого нешифрованного фонда Срезневского, там имеется ещё очень много чрезвычайно ценного интересного для нас материала». Отдельно Фигатнер прошёлся по некоторым академическим институтам и комиссиям, в которых, по его мнению, могли в тайне от Кремля храниться секретные документы. Далее Фигатнер сообщил, что чекисты уже провели первые задержания, а также попросил Центр выделить группу специалистов, которая могла бы в течение месяца разобраться с остававшимися в нешифрованном фонде Академии наук материалами. По поручению Орджоникидзе отчёт Фигатнера 28 октября был разослан всем членам и кандидатам в члены Политбюро ЦК ВКП(б)».
Политбюро ЦК, рассмотрев сразу обе шифровки Фигатнера и Кирова, опросным порядком постановило: «Принять предложение т.Орджоникидзе о создании, согласно предложению т.т.Кирова и Фигатнера, комиссии РКИ для приёма дел и расследования всего дела в составе т.т.Фигатнера (председатель), Петерса и Агранова». Петерс, как известно, входил тогда в состав коллегии ОГПУ, а Агранов руководил в чекистском ведомстве секретно-политическим отделом. Уже 23 октября чекисты выписали первые ордера на аресты подозреваемых. 24 октября Фигатнер, Петерс и Агранов вначале вызвали на беседу Ольденбурга, а затем произвели «опросы» В.Срезневского, И.Кубасова, Н.Измайлова и С.Платонова. Особый интерес представляют результаты опроса чекистом Аграновым академика Платонова, взглянем на них внимательнее на основе материала, опубликованного в 1993 году в журнале «Исторический архив» (№1).
«Агранов: У меня вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, когда Вам стало известно, что в Рукописном отделении Академии наук хранятся подлинные акты отречения Николая и Михаила Романовых?
Платонов: Точной даты не могу сказать, но думаю, вероятно, 1927 г.
Агранов: От кого впервые стало известно?
Платонов: Я скажу. Это история довольно случайная. Я сделался директором Библиотеки в 25 г. Ничего об этом не знал. Незадолго до своей кончины Модзалевский передал четвертушку бумаги (на каком-то бланке) о том, что сенатор Дьяконов и Старицкий передают через Котляревского (покойного) Академии два акта на хранение в Библиотеке. Т.к. рукописное отделение было под моим начальством, я отправился к Срезневскому (к начальнику отделения), предъявил бумагу и сказал: «У Вас?» – Говорит: «Да».— «В описи есть?» – «Есть». Я не знаю, цела ли книга и имели ли Вы её? Был пакет Старицкого, № 607 и был сбоку четырёхугольник (диагональ и какой-то значок). Говорит: «Что это?» – «Это обозначение, что мы получили». — «Покажите». Он показал, и я приказал хранить эту четвертушку вместе.
Агранов: Вы сказали Ольденбургу, что хранятся такие акты?
Платонов: Да, но должен сказать, не придал значения уникального, потому что из литературных источников знал, что несколько раз переделывался текст.
Агранов: По воспоминаниям Шульгина известно, что подлинник, на котором подписывался Николай, имел подчистку.
Платонов: Я не заметил. Должен сказать, не придал значения».
Очень подробно вся эта история с найденным в фондах Библиотеки Академии наук СССР «актом отречения царя» описана в статье питерского журналиста Михаила Сафонова в международной газете «Х-файлы. Секретные материалы 20 века» в статье «Академическое дело и отречение царя» от 13 мая 2013 года, №11 (371), поэтому особо интересующихся деталями этой истории отсылаю к ней.
Я сейчас намеренно оставляю в стороне не только все многочисленные недоуменные вопросы, но также и полностью справедливые оценки тому бардаку, который, если верить вышеупомянутым историческим источникам, творился во многих советских учреждениях «колыбели Великой Октябрьской социалистической революции» – города Ленинграда – более чем через десятилетие после большевистского переворота и завершения гражданской войны в центральной части России. Архивы царской полиции в Пушкинском доме – это уже само по себе звучит почти как политический анекдот! Но ведь по «делу академиков» прошло в общей численности ни много, ни мало порядка 150 человек, причем большинство из них, по данным следствия, составляли «скрытые контрреволюционеры-монархисты».
Напомню в этой связи следующее немаловажное обстоятельство: с марта 1918 года архивами в России заведовало Главное архивное управление при Наркомпросе РСФСР – главном заповеднике троцкизма в тот период, контролировавшем в 1920-1930 гг. практически все культурно-гуманитарные сферы: образование, науку, библиотечное дело, книгоиздательство, музеи, охрану памятников архитектуры и культуры, творческие объединения и пр. С января 1922 по февраль 1925 года все исторические архивы в стране были полностью децентрализованными, ими фактически руководили и бесконтрольно хозяйничали в них местные губернские власти. Лишь в 1938 году НКВД наложило свою суровую «лубянную лапу ЧК» на архивное дело в стране и создало Главное архивное управление НКВД СССР (Главархив СССР). Приравняв тем самым по своему статусу военнослужащих и вольнонаемных работников госархива и, к примеру, того же ГУЛАГа.
Всем хорошо известно, что Григорий Евсеевич Зиновьев (он же Овсей-Гершон Аронович Радомысльский), ближайший друг и сподвижник своего не менее знаменитого земляка Льва Давидовича Троцкого (Бронштейна), до 1926 года являлся членом Политбюро ЦК, руководил Петроградским (Ленинградским) Советом и, одновременно, возглавлял Исполком Коминтерна – основной руководящий орган советской разведывательной структуры того периода. В стольном граде Питере общепризнанный в СССР «революционный диктатор» и «вождь Коминтерна» мог в те веселые времена творить все, что ему заблагорассудится! Ведь не зря же ему дали популярную в народе кличку «Гришка Третий» (следующий по большому историческому счету после Отрепьева и Распутина).
Итак, объединённые троцкисты-зиновьевцы Ленинграда имели прямой и бесперебойный доступ к важнейшим архивным материалам, в том числе и относившихся к истории с отречением от трона Николая II. Отношение к ним они имели самое что ни на есть непосредственное, но всячески маскировали свою глубинную политическую заинтересованность интересами «правильного, истинно классового подхода» в освещении содержимого данных документов некими таинственными происками «недобитых монархистов», якобы тесно связанных с «мировой закулисой».
Вот еще один любопытный документ на ту же тему. 5 ноября 1929 года вопрос о находках в библиотеке Академии наук обсудило Оргбюро ЦК ВКП(б). Бюро постановило: «Для приёма и разбора материалов специального характера назначить комиссию в составе: т.т.Фигатнера (предс.), Пятницкого, Ярославского, Савельева» (РГАНИ, ф. 3, оп. 33, д. 135, д. 25). Подписал постановление секретарь ВКП (б) А.П. Смирнов, бывший депутат разогнанного большевиками Учредительного собрания, бывший нарком земледелия РСФСР и глава Крестьянского Интернационала (Крестинтерна, был в нашей отечественной истории и такой орган), будущий оппозиционер из среды т.н. рыковской школы. Можно только догадываться, как распорядилась «документами специального характера» полномочная комиссия указанного состава… Да там только один Емельян Ярославский (Миней Губельман), лидер «Союза воинствующих безбожников» и глава Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП (б) (она же Комиссия по проведению декрета об отделении церкви от государства0) чего стоил…
Чем закончилось в итоге «академическое дело» (оно же «дело историков»)? А вот чем. В феврале 1931 года на имя И.В. Сталина ОГПУ подготовило докладную записку об окончании следствия по делу «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России» следующего содержания.
«Совершенно секретно. Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину.
Следствие по делу «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России» – монархической организации, возглавлявшейся академиком С.Ф. Платоновым, закончено. Показаниями арестованных членов организации: Платонова, Тарле, Любавского, Лихачева, Рождественского, Бенешевича, Измайлова, Андреева и других установлено: организация ставила своей целью свержение советской власти при помощи вооруженного восстания и иностранной военной интервенции и установление конституционной монархии во главе с бывшим великим князем Андреем Владимировичем.
В основу программы организации легли следующие положения. «Будущая» Россия мыслилась как федерация отдельных государств, имеющих свои правительства, парламенты, свободу языка и культурного развития, но сплоченных в единое целое Всероссийским правительством, возглавляемое монархом. Такие автономные государства предполагались на Украине, Кавказе, в Сибири и на Дону. Лимитрофные государства должны были войти в федерацию. Самостоятельность признавалась лишь за Польшей и Финляндией. На первое время после переворота предполагалось установление военной диктатуры с генералом Лохвицким (видный белоэмигрантский деятель) в качестве диктатора.
В области народного образования предполагалось восстановление дореволюционных норм, как для высшей, так и средней школы. В области церковной политики предполагалось заключение унии католической и православной церквей. Организация ориентировалась на Германию, с которой предполагалось заключение тесного военно-политического и экономического союза.
Возникновение организации относится к 1925 г., окончательное оформление и укрепление – к 1928 г. За время своего существования организаций проведены следующие практические мероприятия:
1. Установлена тесная деловая связь с националистической партией Германии в лице ее лидеров – профессоров Отто Гетч, Отто и Ионас Шмидт. Одновременно установлена связь с немецкой фашистской организацией «Stahl Helm» (О. Гетч является одним из руководящих деятелей этой организации). Сношения с немецкими националистами поддерживались во время заграничных поездок Платонова, Тарле, Егорова и других членов организации. Немцы оказывали регулярную денежную помощь «Всенародному союзу» (около 5 тыс. рублей ежемесячно). Между руководителями «Всенародного союза борьбы» Платоновым, Тарле, Егоровым и другими представителями немецких монархических кругов неоднократно велись переговоры о военной интервенции Германии в СССР. По плану организации интервенция предполагалась не позже весны 1931 г. и должна была начаться высадкой десанта германских войск со стороны Балтийского моря с одновременным нападением на Ленинград и другие пункты СССР германского воздушного флота, база которого устраивалась в Финляндии. «Стальной шлем» обязывался выставить 15 тысяч вооруженных и обученных бойцов, которые должны были руководить действиями повстанческих отрядов.
2. По поручению организации академик Тарле неоднократно вел переговоры с отдельными общественными и политическими деятелями Франции с целью подготовки общественного мнения к интервенции. Целью переговоров Тарле было установление делового контакта с французскими государственными деятелями и получения от них согласия на германскую интервенцию в СССР.
3. Организацией было заключено соглашение с Ватиканом, который обязывался на основе создания унии католической и православной церквей вести антисоветскую пропаганду за границей и финансировать деятельность «Всенародного союза борьбы». Переговоры с Ватиканом вел профессор Бенешевич-канонист, член-корреспондент Всесоюзной Академии Наук и член Берлинской академии наук. Соглашение было утверждено папой Пием XI, с которым Бенешевич имел личное свидание в 1928 г. В исполнение своих обязательств Ватикан перевел «Союзу» 350 тыс. рублей и развил интенсивную антисоветскую деятельность за границей.
4. В деятельности «Всенародного союза» за рубежом принимали активное участие видные белоэмигрантские деятели (Коковцов, Маклаков, Струве, Лохвицкий и другие). Платонов по поручению «Всенародного союза» вел переговоры в 1928 г. в Берлине с бывшим великим князем Андреем Владимировичем, от которого он получил согласие на «восшествие на российский престол».
5. Платонов был тесно связан с немецким консулом в Ленинграде Цехлиным, который был в курсе деятельности организации. Платоновым регулярно передавались немцам отчеты в израсходовании полученных сумм. Отчеты сопровождались сообщением информационных сведений о внутреннем политическом положении СССР, о состоянии Красной армии и о деятельности Коминтерна. Руководитель военной группы организации Измайлов регулярно доставлял заграницу генералу Лохвицкому сведения о состоянии Красной армии. Руководящим центром организации было намечено будущее правительство во главе с академиком Платоновым и Коковцовым.
«Всенародным союзом борьбы» была развернута энергичная деятельность внутри СССР: 1. Была создана военная группа организации, состоявшая из бывших офицеров (Измайлова, Петрова, Пузинского, Кованько и других), выработавшая конкретный план захвата Ленинграда и готовившая вооруженное восстание к началу интервенции. 2. Велась большая пропагандистская работа и работа по подготовке антимарксистских научных кадров, а также кадров будущих государственных деятелей. С этой целью была создана сеть кружков, находившихся под руководством отдельных членов организации. Эта сеть охватывала несколько сот научных работников в одном только Ленинграде. 3. Организацией велась работа по созданию центров «Всенародного союза» на периферии. В Москве существовал Московский центр, в состав которого входили академик М.К. Любавский и профессора: Д.И. Егоров (заместитель директора Публичной Библиотеки СССР имени Ленина), Готье и Бахрушин.
Одновременно с «Всенародным союзом» раскрыта и ликвидирована немецкая шпионская сеть, возглавлявшаяся учёным, сотрудником Академии Наук профессором Мервартом. Мерварт – старый немецкий шпион (с 1913 г.), состоял видным членом «Всенародного союза борьбы», являясь, по существу, эмиссаром немецкой разведки при руководящем центре этой организации и посредником между академиком Платоновым и немецким консулом в Ленинграде Цехлиным. Мерварт дал откровенные показания о своей роли во «Всенародном союзе», а также о своей шпионской сети, состоявшей преимущественно из инженеров и научных работников, служивших в различных учреждениях, занимавшихся, главным образом, изучением естественных производительных сил СССР.
Полагаем целесообразным дело «Всенародного союза» рассмотреть на судебном заседании Коллегии ОГПУ. Зам. председателя ОГПУ Ягода». (Источники: «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922-1934 гг.). Т. 9. М., 2013, с. 458-460; Архив ФСБ РФ: Ф. 2. Оп. 9. Д. 513. Л. 1-4. Копия).
Итак, согласно документальным свидетельствам эта очень мощная и достаточно разветвленная промонархическая организация существовала в стране, начиная с 1925 года. Об этом же свидетельствует и содержание составленного 3-м отделением СО ОГПУ «Меморандума о ликвидации за последние два года наиболее серьезных контрреволюционных организаций», в котором говорилось: «В ряду таких контрреволюционных организаций, которые создавались при непосредственном участии интеллигенции или при ее прямом руководстве, обращают на себя особое внимание нижеследующие:
1. Группа вредительских организаций (Шахтинское дело, дело сотрудников НКПС, дело работников военной промышленности и целый ряд аналогичных по характеру более мелких организаций).
2. «Союз восстановления правопорядка и законности». Организация эта, раскрытая нами в Ленинграде в 1930 г., возглавлялась академиком Платоновым и таилась в недрах Академии наук. Возникла еще с 1927-28 гг. и была организована черносотенной профессурой совместно с активными деятелями германского «Стального Шлема» и германской разведки. Этими организациями «СВПЗ» и финансировался.
В задачу организации входило восстановление в СССР конституционной монархии во главе с бывшим князем Андреем в качестве монарха.
Свержение советской власти, по мысли руководителей «СВПЗ», возможно было при помощи интервенции, но лидеры «СВПЗ» считали, что к моменту вторжения иностранных войск в пределы СССР они смогут организовать восстание в Ленинграде и в других городах. «СВПЗ» пытался организовать свои филиалы в Москве, Одессе и Поволжских городах.
В Ленинграде «СВПЗ» имел ряд кружков из антисоветской молодежи, главным образом из детей бывших дворян. С этой молодежью велась систематическая работа. Из молодежи готовились кадры, которые должны были развивать дело «освобождения России». «СВПЗ» широко использовал для своей работы аппарат и авторитет Академии наук. В 1929 г. «СВПЗ» наметил правительство, которое должно было взять власть в свои руки после падения советского строя.
Кроме Германии, с которой предполагалось заключить военно-политический союз, «СВПЗ» пытался найти поддержку в реакционных кругах Франции и через Б.Н. Бенешевича связан был с Ватиканом. Из эмигрантских организаций «СВПЗ» был связан с Высшим Монархическим Советом.
Кроме того, через отдельных членов «СВПЗ» имел связи с крупными контрреволюционными организациями, которые ликвидированы были в Ленинграде в 1928-29 гг. — «Воскресение» и «Братство Серафима Саровского» (религиозно-монархические организации, в состав которых входили главным образом бывшие дворяне)».
Вполне резонно возникает вопрос: если СВПЗ, как и «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России», был действительно связан с Высшим монархическим советом, имел свои многочисленные филиалы в Москве, Одессе и других городах СССР, то в каких отношениях он должен был находиться с легендированной стараниями ОГПУ «Монархической организацией Центральной России» (МОЦР) и ее полномочным эмиссаром в Минске, Киеве, Москве и Ленинграде В.В.Шульгиным в начале 1926 года? И были ли, в частности, попытки прояснить с его помощью таинственную историю появления «царского манифеста» в закрытом фонде Библиотеки Российской академии наук?
Чуть ранее я упоминал, что В.В. Шульгин, как ни странно это выглядит, к весьма специфической спецслужбистской деятельности имел самое прямое и непосредственное отношение. Причем это имело место зачастую с совершенно разных, порой достаточно неожиданных, сторон, и отмечалось в эпизодах, в которых Шульгин выступал в самом различном качестве – начиная от руководителя разведывательной сети белого движения на Юге России и заканчивая деятельностью в качестве завербованного агента французской, британской, польской и румынской разведок.
Сегодня, например, из художественной, научной и специальной литературы хорошо известно, что в 1921-1927 гг. чекистами проводилась масштабная оперативная игра, основной целью которой было выведение на советскую территорию с последующим арестом и физической ликвидацией ряда наиболее опасных руководителей контрреволюционных организаций. базирующихся на территориях некоторых европейских государств, в частности, Польши. Франции, Германии, Финляндии, Бельгии, Сербии, Болгарии и др. Некоторые исследователи разделяют эту игру на две ее основные составные части – под условными названиями «Операция «Трест» и «Операция «Синдикат-2». Но на самом деле у этой оперативной игры был и единый стратегический замысел, и однотипный характер легендирования проводимых в ходе игры операций, и практически один и тот же состав участников и исполнителей. Характерно, что подавляющее большинство сотрудников и агентов органов ГПУ-ОГПУ, задействованных в оперативной игре, были в последующем репрессированы именно как активные участники троцкистского подполья в СССР.
В официальной историографии Службы внешней разведки РФ операции «Трест» и «Синдикат-2» трактуются «как начало зарождения эпохи планомерной деятельности советской разведки за рубежом», хотя на деле их проведением занимались в основном органы советской контрразведки, а если быть совсем уж точным – военной контрразведки. Вначале это был Особый отдел ВЧК-ГПУ, руководимый лично Ф.Э. Дзержинским, а затем КРО ОО ГПУ-ОГПУ, возглавляемый А.Х. Артузовым (Фраучи). С точки зрения нынешней направленности деятельности основных структур отечественных специальных служб их вполне можно было бы отнести в внешней контрразведке, хотя основная часть работы именно по этому направлению обеспечивалась, прежде всего, через соответствующие специализированные структуры Исполкома Коминтерна (ИККИ).
По достаточно широко бытующей ныне версии, главным идеологом затеянной чекистами широкомасштабной оперативной игры стал генерал-лейтенант, бывший заместитель (товарищ) министра внутренних дел и командующий Отдельным корпусом жандармов Российской империи, бывший московский генерал-губернатор Владимир Федорович Джунковский (мой земляк, кстати, выходец из дворян Полтавской губернии). Тот самый, чей личный архив длительное время хранился в Пушкинском доме... Он резонно полагал, что розыск наиболее активных контрреволюционеров, особенно из числа их боевой, террористической части, является малоэффективным занятием, и поэтому предложил руководству ВЧК дезинформацию в качестве основного способа нейтрализации усилий противника.
Основной смысл предложенной им схемы продвижения дезинформации заключался в создании продуманной и взаимосвязанной сетевой структуры «ложных целей» как в виде реально существующих, но полностью подконтрольных чекистам, так и вымышленных, вовсе не существующих в природе подпольных антисоветских организаций. Основной целью чекистских операций с участием легендированных подпольных организаций было: пресечение попыток совершения актов массового террора со стороны эмигрантских контрреволюционных организаций, дезинформирование спецслужб ряда зарубежных государств, отвлечение сил и средств эмигрантских кругов и стоящих за ними спецслужб на проведение самых различных контролируемых мероприятий специального характера.
Какие цели при этом преследовались противной стороной (а организация подобных операций – это, отнюдь, не «игра в одни ворота», какой-то положительный эффект, профит от них непременно достигается и противником, поэтому здесь особенно важен общий итог в виде положительного или отрицательного сальдо баланса, выражаясь цветистым языком бухгалтерии. При этом, на мой взгляд, гораздо более существенным является другое: а кто в них играл роль противоборствующей стороны для контрразведчиков ГПУ-ОГПУ?. Думаете, спецслужбы империалистических государств и связанные с ними белоэмигрантские организации? Я так не думаю.
И в качестве предмета для размышлений на эту тему приведу один очень примечательный отрывок из «Неопубликованной публицистики» В.В.Шульгина под названием «Трест», приведенный в «перестроечном» издании его книги «Три столицы». (Шульгин В.В. «Три столицы». М.: Современник, 1991 (Серия мемуаров «Память»), с. 385-389). Процитирую его здесь с некоторыми несущественными сокращениями.
«Трест (история возникновения книги «Три столицы»). В книге «Три столицы» изложена моя нелегальная поездка в Советскую Россию в конце 1925-го и начале 1926 года. Ездил я тогда по России конспиративно, будучи белым эмигрантом. Покровительствовала мне подпольная антисоветская организация под названием «Трест». История этого «Треста» до сего дня так же «темна и непонятна», как история мидян.
Органы советской власти о «Тресте» разноречат. Одни считают, что это была настоящая контрреволюционная и очень сильная организация, имевшая свой центр в Москве, другие полагают, что «Трест» был так называемая «легенда», т.е. организация, устроенная агентами власти в целях провокационных. Во всяком случае, именно эта организация дала мне возможность конспиративно приехать в Россию. Главой ее был некто Александр Александрович Якушев. До революции он был видным работником по внутренним водам с чином IV класса, «его превосходительство». Троцкий, который в то время был очень силен, узнав о нем, пригласил его к себе. Якушев ответил, что добровольно он к Троцкому не пойдёт. Тогда за ним послали солдат и привели его недобровольно. Троцкий встретил его с изысканной любезностью и угостил превосходным обедом, что в те времена было аргументом не из последних, так как все голодали. За этой трапезой Троцкий говорил так:
- Александр Александрович, мы прекрасно знаем, кто вы. Вы русский патриот. Так вот, оставайтесь тем, что вы есть. Кроме того, вы еще патриот своего дела, своей специальности. Я думаю, что у вас есть широкие планы насчет того, что можно сделать с русскими реками. Но когда вы делились этими планами с царским правительством, вам неизбежно отвечали: «На это у нас денег нет, есть нужды более насущные». Не так ли?
- Да, это верно, – сказал Якушев.
- Так вот, – продолжал Троцкий, – у нас, большевиков, на такие дела деньги найдутся. Дайте только конструктивные идеи, а мы их осуществим.
Таким образом, Троцкий, между прочим, очень умный человек, поймал Якушева на крючок, нажав на педаль профессионального патриотизма. Якушев стал работать, и так усердно, что ему дали заграничную командировку для ознакомления с тем, что делается на Западе по его специальности…
Тайно проникнув в Россию в 1926 году, я не проявил себя явно и не стал работать с советской властью, а стал работать с заговорщицкой дружиной под эгидой Якушева. Мы хотели реформировать Россию по примеру Запада и не верили в творческую силу насильственного коммунизма. Бросающееся в глаза возрождение России под дуновением нэпа укрепляло нас в этих мыслях. Когда я уезжал из России (это было в начале февраля 1926 года), Якушев пригласил меня на прощальный обед, на котором присутствовало еще два лица из состава «Треста», а именно – описанный впоследствии в книге «Три столицы» Антон Антонович и неизвестный мне господин средних лет, который, кажется, был Опперпут. Во время обеда я спросил:
- Вы так много сделали для меня (я подразумевал их старания найти моего сына, ведь причиной моего приезда в Россию было именно это). Что я со своей стороны могу сделать для вас?
Якушев ответил:
- Мы хотели попросить вас, чтобы, вернувшись в эмиграцию, вы написали книгу о вашем пребывании в России.
Я ответил:
- Ни в коем случае я этого не сделаю.
- Почему?
- Потому что я напишу книгу и напечатаю ее, а вас тут перехватают чекисты. Как я могу быть уверенным, что мои рассказы не подведут вас?
Меня убеждали, чтобы я ничего не боялся. Но я ответил:
- Я исполню ваше желание только под одним условием.
- Именно?
- Можете ли вы устроить так, чтобы вся моя рукопись побывала у вас и чтобы вы вычеркнули все из нее, что представляет опасность.
Подумав, Якушев ответил:
- Это возможно…
И это было сделано. Весь текст книги «Три столицы» побывал в Москве и потом вернулся ко мне в эмиграцию. Якушев вычеркнул только две строки.
Между прочим, вот почему я думаю, что преждевременно называть «Трест» легендой, созданной чекистами ради провокации. Быть может, когда-нибудь окажется, что чекисты того времени играли на две стороны. Шла тайная, но жестокая борьба между двумя претендентами на власть – Троцким и Сталиным. Тогда еще не было известно, кто победит. Под крылышком Троцкого собирались самые различные антисоветские и антисталинские группировки. Якушев определенно опасался Сталина. Быть может, ему было известно завещание Ленина, предупреждавшего партию в отношении Сталина. Якушев был несомненным троцкистом в том смысле, что он считал Троцкого умным и деловитым. Нерешённая в то время борьба между Троцким и Сталиным должна была влиять на тогдашних чекистов. Об этом можно думать, учитывая, например, роль Ягоды, одного из руководителей ОГПУ, расстрелянного Сталиным впоследствии.
Однажды Якушев сказал мне:
- Что вы думаете о «Тресте»?
Я ответил:
- Я думаю, что «Трест» есть антисоветская организация, и притом очень сильная, т.к. она не боится всесильной руки ВЧК.
На это он сказал:
- «Трест» – это измена, поднявшаяся в такие верхи, о которых вы даже не можете и помыслить.
Размышляя об этом предмете сейчас, я думаю: не следует ли под выражением «такие верхи» понимать верховных чекистов? Чекисты заколебались, не зная, кто победит, и на всякий случай пригревали и троцкистов. Троцкий покровительствовал Якушеву, а поэтому последний и не боялся ВЧК. Вот, дорогой читатель, в какие дебри мы забрались, желая быть историчными, т.е. правдивыми. Но полагаю, что наши блуждания не без пользы. Теперь должно быть ясно, почему я не остался в Советском Союзе в 1926 году, а исполняя желание Якушева, вернулся в эмиграцию и написал книгу «Три столицы», в которой рассказал, что в России есть внутренние силы, активно борющиеся с Советской властью, и объяснил, за что они борются».
Итак, снова на авансцене тогдашней внутриполитической жизни СССР замаячила тень… нет, не отца Гамлета, а Л.Д. Троцкого. Вы, надеюсь, слышали о таком политическом явлении как «энтризм»? Энтризм (также называемый энтеризмом или проникновением, от французского и английского слова «enter» (входить, вступать) – политическая стратегия, при котором организация или государство призывает своих членов или сторонников вступать в другую, обычно более крупную, организацию с целью распространения в ней своего влияния, идей и программных установок. Если организация, в которую «вступают», враждебна энтризму, участники могут прибегать к определенным уловкам и к подрывной деятельности, чтобы скрыть тот факт, что они сами по себе являются организацией. Классический пример проникновения масонских структур в состав Первого и Второго Социалистических и Третьего Коммунистического Интернационалов я приводил в книге «Зарубки на гриппозной сопатке».
С этим понятием тесно связано понятие «пятая колонна», под которой обычно понимают любую группу людей, которые подрывают более крупную группу или нацию изнутри, обычно в пользу вражеской группы или нации. Энтризм, как известно из мировой истории, активно использовался троцкистами, проникавшими в уже существующие массовые организации рабочего класса – реформистские социал-демократические и коммунистические (сталинские) партии, а также в связанные с ними профсоюзы с целью постепенной их радикализации.
Так, в июне 1934 года Троцкий одобрил идею вступления троцкистов во Французскую секцию Рабочего интернационала (СФИО) в ожидании существенных благоприятных перспектив для развертывания «революционно-социалистической агитации» в условиях активного формирования единого Народного фронта». Закончилось это формированием в июне 1936 года коалиционного правительства Леона Блюма, которого «Википедия» как первого социалиста и еврея во главе французского правительства. Он был сыном эльзасского купца и фабриканта шелковых лент Авраама Блюма, вступившим в политику под влиянием «дела Дрейфуса», издателем печатного органа будущей Французской компартии – газеты «Юманите», членом Еврейского агентства Хаима Вейцмана и будущим узником гитлеровского концлагеря Бухенвальд.
Закономерно возникает вопрос: а почему энтристская политическая методика Троцкого не могла использоваться им и его активистами (которых в ОГПУ было более чем достаточно) в истории с созданием легендированных эмигрантских организаций? Что, на ваш взгляд, вытекает из процитированного мною выше отрывка, относящегося к событиям 1926 года (прошу отметить это обстоятельство особо!)? На мой взгляд, то, что и операция «Трест», и операция «Синдикат-2» уже потеряли к тому времени свой первоначальный смысл и первоначальную направленность – прежде всего на «выманивание» на территорию СССР и физическое уничтожение наиболее заядлых врагов советской власти. Таких, например, как Сергей Павловский, Борис Савинков, Сидней Рейли и целый ряд других. Павловский был арестован вместе с Шешеней еще в сентябре 1923 года. Савинков вместе с Фомичёвым и супругами Дикгоф-Деренталь был арестован 16 августа 1924 года в Минске, уже через десять дней – 25-29 августа состоялся судебный процесс по делу Савинкова, а в мае 1925 года он был уже мёртв. Кстати, в том же 1924 году в СССР «Литиздатом НКИД» был издан полный стенографический отчет по процессу Савинкова с рядом его автобиографических приложений.
То есть, для белоэмигрантского зарубежья все последующие перипетии случившегося с Б.Савинковым в СССР конфуза из-за вымышленной организации «Либеральные демократы» в 1925 году никакого секрета уже не представляли. Британский разведчик Сидней Джордж Рейли (Шломо Розенблюм) был арестован в сентябре 1925 года на финской границе, и в ноябре 1925 года он был расстрелян в Москве по приговору 1918 года по делу Локкарта. Значит, и его «шпионская одиссея» закончилась в 1925 году, больше чекистам было некого выманивать в СССР из белоэмигрантского подполья, если не считать руководителей Российского общевоинского союза во главе с генерал-лейтенантом бароном П.Н. Врангелем. Но и с ним самим, и с его соратниками генералами А.П. Кутеповым и Е.К. Миллером советские спецслужбы, как теперь известно, «разобрались» позднее несколько иными способами, хотя тот же В.В. Шульгин (может быть, сам того не подозревая) сыграл в этом эпизоде одну из ключевых ролей. Как известно, он нелегально находился в СССР в период с 23 декабря 1925 года по 6 февраля 1926 года, то есть уже после смерти Савинкова и Рейли. И тот факт, что он благополучно вернулся в Западную Европу, явно сыграл «на руку» якушевской легенде о реальности существования мощной Монархической организации Центральной России (МОЦР), которая просуществовала в воображении руководства белоэмигрантских кругов на Западе еще целый год.
Почему В.В. Шульгин пользовался в тот период достаточно весомым авторитетом не только в чисто политических, но также и в военно-политических кругах русской эмиграции, был «своим человеком» в среде бывших сотрудников различных спецслужб царской России? Да хотя бы потому, что к их специфической деятельности он имел самое прямое и непосредственное отношение. Примерно с 1993 года в отечественной научной литературе нарастающим потоком стали появляться публикации, посвященные деятельности т.н. подпольной организации «Азбука». По данным «Википедии», «Азбука» — условное название тайной организации Белого движения, базировавшейся на Юге России. Разведывательное, осведомительное отделение при Ставке верховного главнокомандования Вооружённых сил на Юге России. Существовала с конца 1917 года, хотя формально была оформлена в марте 1918 года, по декабрь 1919 года, при этом деятельность некоторых отделений продолжалась до начала 1920 года. С марта 1918 года возглавлялась видным общественным и политическим деятелем Российской империи В.В. Шульгиным».
Занимательно, однако… То, что раньше было известным лишь отдельным работникам центрального аппарата и ряда территориальных органов КГБ, а также центрального архива, внезапно бурным потоком просочилось в публичное пространство и стало достоянием весьма обширного круга лиц, живо интересующихся историей отечественных спецслужб. Вначале в Санкт-Петербурге в серии «Русское прошлое» в 1993 году появилась публикация В.Г. Бортневского «К истории осведомительной организации "Азбука". Из коллекции П.Н. Врангеля (архив Гуверовского института)», а в 1997 году в журнале «Источник» была опубликована его же статья под названием «Сотрудники "Азбуки" свято исполнили долг». Примерно в тот же период в четвертом выпуске того же питерского альманаха «Русское прошлое» (издательство «Логос») был опубликован сводный (хотя, как особо отмечалось, неполный, насчитывающий около 110 фамилий) список сотрудников этой загадочной организации.
Наконец, в 2003 году в журнале «Новая и новейшая история» появилась обширная совместная исследовательская публикация двух авторов – доктора исторических наук А.В. Репникова и одного из руководителей Центрального архива ФСБ РФ В.С. Христофорова – под названием «В.В. Шульгин – последний рыцарь самодержавия. Новые документы из Архива ФСБ». Ее ценность заключается в том, что, в отличие от многочисленных пересказов детективных фантазий в духе наиболее выдающихся рассказчиков фольклора одесского Привоза и Молдаванки в духе «гениального и выдающегося» местечкового писателя, журналиста, сценариста, драматурга и психоневролога Исаака Бабеля (Исаака Маньевича Бобеля), в статье приводятся полные тексты двух протоколов допросов В.В. Шульгина оперативными и следственными сотрудниками «СМЕРШ», датированные январем 1945 года. На их содержание я в основном и буду опираться в характеристике всей «разведывательно-контрразведывательно-шпионской» активности В.В. Шульгина в довоенный период.
Из протокола допроса Шульгина Василия Витальевича старшим оперуполномоченным 3 отделения 1 отдела Управления контрразведки «Смерш» 3-го Укр[аинского] фронта капитаном Кацалаем и оперуполномоченным 3 отделения 1 отдела УКР «Смерш» 3-го Украинского] фронта лейтенантом Шешиным от 17 января 1945 года (ЦА ФСБ РФ, д. N Р-48956. л. 10-18. Подлинник. Рукопись). «1 марта 1918 г. гор. Киев был занят немецкими войсками, в связи с этим я выпустил один номер газеты "Киевлянин" с передовой статьей, в которой указывал следующее: "...что закрывая газету, существовавшую 50 лет, обязан сказать, что немцев мы должны рассматривать как врагов, потому что война продолжается, а мы дали слово англичанам и французам вести борьбу против общего врага...". Вследствие этой статьи ко мне на четвертый день явился представитель французской военной разведки, назвавшийся капитаном Энно, и поблагодарил меня от лица Франции и одновременно предложил мне сообщать о всех происходящих политических событиях и связь непосредственно поддерживать через его заместителя Циркаль (чех). На предложение Энно я выразил свое согласие и, после чего через Циркаль, посылал сведения информационного порядка о всех происходящих политических событиях.
Вопрос: Значит, Вы завербованы французской разведкой. Расскажите об этом подробно?
Ответ: Да, действительно, в марте 1918 года я был привлечен к шпионской работе со стороны французской разведки капитаном Энно, которому выразил свое согласие, после чего давал материалы информационного порядка о всех происходящих политических событиях и о настроениях населения. Наряду с этим необходимо отметить, что в марте 1918 года я был привлечён к работе со стороны английской разведки капитаном Вебстером, которому также давал аналогичные материалы как капитану Энно, т.е. о всех происходящих политических событиях 1918-19 годах.
Вопрос: Воспроизведите текст подписки, данной Вами сотруднику французской разведки капитану Энно и сотруднику английской разведки капитану Вебстер?
Ответ: Подписки о сотрудничестве с французской и английской разведками не давал, но выразил свое устное согласие.
Вопрос: Какие Вы получали задания шпионского характера от французской и английской разведок?
Ответ: В основу моей работы входило сообщать о всех происходящих политических событиях в России, другими сведениями я не интересовался.
Вопрос: Как Вы практически поддерживали связь с французской и английской разведками?
Ответ: С французской разведкой я поддерживал связь через заместителя капитана Энно – Циркелем, с которым встречался два-три раза в месяц и давал материалы, интересующие их. Связь с капитаном Энно и его заместителем поддерживал с марта 1918 по март 1919 года.
С английской разведкой связь поддерживал через капитана Вебстер, которому систематически высылал интересующие его материалы через своих курьеров в гор.Москву. Капитан Вебстер в то время находился на службе при английском посольстве в России и одновременно занимался шпионской работой.
Будучи тайным сотрудником французской и английской разведок я был начальником осведомительной организации при армии генерал-лейтенанта Деникина, носившую название "Азбука". Являясь начальником осведомительной организации "Азбука" занимался агентурно-оперативной работой в частях, входящих в состав армии Деникина, т.е. через свою агентуру вскрывал политические настроения солдат и офицеров и населения города Киева и Одессы.
Вопрос: Сколько у Вас было агентуры при осведомительной организации "Азбука"?
Ответ: Агентурно-осведомительной сети из числа солдат и офицерского состава и курьеров было 50 человек, с вышеуказанной агентурой я и мои подчиненные встречались согласно графиков два-три раза в месяц.
Вопрос: Расскажите о структуре и построении работы в осведомительной организации "Азбука"?
Ответ: Правильной конструкции и построения работы в осведомительной организации (носившей название "Азбука") не было. Весь информационный материал от агентуры получался в устном порядке и затем обрабатывался мною или моим заместителем Сазенко Анатолием Ивановичем и, в секретном порядке, если заслуживал внимания, направлялся через курьеров командующему Добровольческой армией генерал-лейтенанту Деникину.
Вопрос: Сколько времени Вы были начальником осведомительной организации "Азбука" при армии Деникина?
Ответ: Начальником осведомительной организации "Азбука" при армии Деникина я был с марта 1918 года по январь 1920 года и в феврале 1920 года в составе отряда полковника Стесселя бежал из России в Румынию, где в числе других солдат и офицеров я был разоружен и выгнан из пределов Румынии, откуда проник в Одессу, где проживал на нелегальном положении до июля 1920 года, а затем из гор. Одессы выехал в Крым, в армию генерал-лейтенанта Врангеля. При вторичной попытке проникнуть в Одессу для вывозки оставшихся там лиц я был сильным норд-остом выброшен на территорию Румынии в окрестностях гор. Аккермана, где был арестован румынской разведкой за подозрение в принадлежности к большевистской партии.
Вопрос: По каким вопросам Вы допрашивались в Румынской разведке?
Ответ: Будучи на допросах в румынской разведке я допрашивался по вопросам военной обстановки и о численности армии Врангеля и ее вооружении и по своим автобиографическим данным.
Вопрос: Значит, Вы завербованы румынской разведкой?
Ответ: Завербован в румынскую разведку я не был, и сотрудничать с ними никто не предлагал».
Прервёмся здесь в повествовании и слегка задумаемся над вышеизложенным. Итак, будучи тайным сотрудником французской и английской разведок, Шульгин одновременно был начальником осведомительной организации при армии генерал-лейтенанта Деникина, носящей название «Азбука». Совершенно очевидно, что добытые этой организацией сведения Шульгин одновременно передавал Деникину, англичанам и французам. Насколько глубокими и насколько ценными могли быть эти устные информационные сведения? Судите сами.
Авторы упомянутой выше статьи Репников и Христофоров дают в ней следующую сноску-разъяснение к документальному материалу. «"Азбука" – условное название разведывательного отделения при Ставке Верховного Главнокомандования ВСЮР. Все агенты имели подпольные клички согласно буквам алфавита. Начальником отделения был член Особого совещания В.А. Степанов, его заместителем – жандармский полковник П.Т.Самохвалов. Основная задача – сбор и анализ сведений о внутреннем и внешнем положении России (как "красной", так и "белой"). Главная квартира отделения находилась сначала в Екатеринодаре, а затем в Таганроге. Отделение имело агентуру во многих регионах страны (Москва, Киев, Омск и др.), а также за границей – в Константинополе, Софии, Белграде, Праге и др.
В подразделении, занимавшемся внутренней контрразведкой – так называемой "Азбуке наизнанку", – составлялись политические сводки, которые печатались в трех экземплярах и регулярно представлялись председателю особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР A.M. Драгомирову (с сентября заменен А.С. Лукомским), начальнику военного управления особого совещания А.С. Лукомскому и начальнику штаба ВСЮР И.П. Романовскому. В декабре 1919 г. "Азбука" официально была ликвидирована, но фактически ее деятельность продолжалась до начала 1920 г.».
(Продолжение следует)