
Кафедра патрологии в Париже раскрыла Флоровскому новые перспективы: только что появился Богословский институт…
О, бездна и недра сочинений Отцов!
Духовный бархат, и налитый соком прочувствованной мысли духовный же виноград, просвеченный солнцем духа.
Богословского образования Флоровский не имел: блеск самоучки вдвойне ярок: к тому же, лишённый влияний, Флоровский мог развивать собственную, неуёмную мысль.
Он публикует тома об Отцах, и о путях русской православной мысли; неопатристический синтез, открываемый им, подразумевает живое богословие: использованье современного опыта, как бы наслаивающегося на опыт их, древних, вещих, ветхих, как Завет.
Но и – возращение к святоотеческой традиции было важным для Флоровского: ибо отрыв от корней чреват.
Он искал верный ключ – к соответствию, золотому балансу между светской философией и богословскими построениями.
Ключ – с точки зрения Флоровского – неверно выведен софиологами, и нужный вектор поиска Флоровский определял, как погружение в мир христианского эллинизма.
Греческие отцы открывали перспективы, согретые благодатью.
Речь его «Задачи русского богословия» широко разнеслась в своё время: неизбежный возврат к византийской мысли рассматривался, как возможный вариант обновления.
Сложно погружаться в зыбкие материи: у человека нет зрения для исследования запредельных данностей; и приборы такие не изобретены: остаётся душа: в сущности, исследованию которой, и через неё – пространств – и была посвящена жизнь Г. Флоровского.







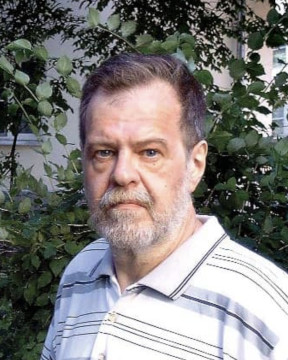














1.
«Настало время, когда уклончивость от богословского знания и ведения становится смертным грехом, стигматом самодовольства и не любви, стигматом малодушия и лукавства. Опрощенство оказывается бесовским наваждением, и недоверие к ищущему разуму обличается как бесовское страхование. “Тамо убояшася страха, идеже не бе страх”.
И здесь уместно припомнить и повторить пронзительные слова Филарета Московского, сказанные много лет тому назад, тоже в обстановке страхований и уклончивости.
“То правда, что не всем предназначен дар и долг учительства, и Церковь не многих удостоила имени Богословов. Однако же никому не позволено в христианстве быть вовсе не ученым, и оставаться невеждою. Сам Господь не нарек ли Себя учителем, и Своих последователей учениками? Прежде, нежели христиане начали называться христианами, они все до одного назывались учениками. Неужели это праздные имена, ничего не значащие? И зачем послал Господь в мир Апостолов? – прежде всего учить все народы: шедше научите вся языки. Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа, – не для тебя посланы Апостолы, – ты не то, чем были все христиане с самого начала христианства; – я не знаю, что ты такое, и что с тобою будет” (Слова и Речи, т. IV, 1882, стр. 151–152, – слово сказано в 1841 году, на день святителя Алексия)».