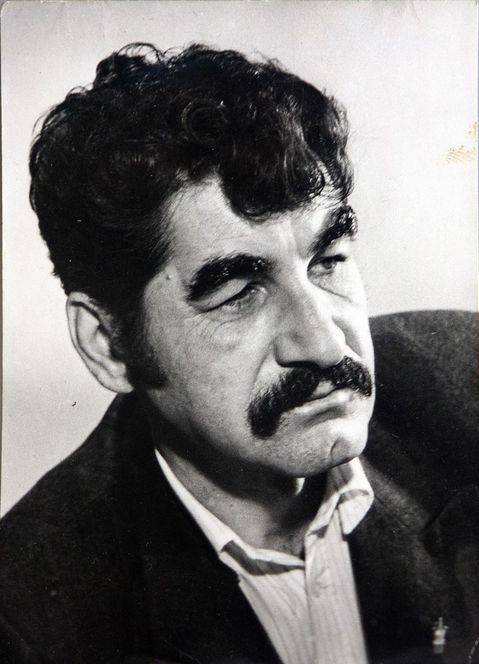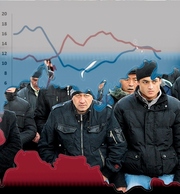.jpg)
От знака, которым поэзия отмечает на лету,
от имени, которое она даёт, когда это нужно,
- никто не может уклониться, так же,
как от смерти. Это имя даётся безошибочно.
А. Блок,
«О назначении поэта».
1.
Смерть великого человека не может не волновать людей последующих поколений. Ведь таинство его смерти есть продолжение тайны его жизни и его таланта, которые, как правило, открываются и постигаются запоздало. Причём, смерть такого человека волнует вне зависимости от самих обстоятельств ухода его из жизни, и от того, что «смерть понятней жизни» (А. Блок). И мы обращаемся к ней вовсе не для того, чтобы потешить свою праздность. И уж тем более она волнует и будет волновать людей, если эти обстоятельства по каким-то причинам остаются не прояснёнными или подозрительными.
Смерть же поэта по определению не может быть сведена к «врачебному взгляду», исключительно к медицинской стороне дела по той причине, что поэт, тем более большой поэт – это человек особой духовной и психологической организации, обыденными мерками не постигаемой. К тому же, смерть поэта – трагедия для народа, так или иначе оставляющая в его сознании свой след. Кроме того судьбы русских поэтов со времён М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова трагичны и загадочны. И в этом угадывается какая-то страшная закономерность…
Тайна смерти поэта не может быть сведена и исключительно к обстоятельствам житейско-бытовым. И если к ним слишком уж настойчиво апеллируют, это верный признак того, чтобы уйти от объяснения действительной трагедии. Ведь, в конце концов, все, как правило, сводится к тому образу мира, который поэт являл и который обществу в силу причин преходящего социального порядка оказался пока не нужным. Извечная трагедия поэта, прозревающего то, что людьми постигается потом, по прошествии времени. Трагедия тем более таинственная, если это происходит в страшное революционное время, когда «ещё закон не отвердел» (С. Есенин).
Неожиданная смерть Александра Блока 7 августа 1921 года изначально вызвала небезосновательные подозрения, обсуждения и слухи. Как это ни странно, но остаётся она таковой вплоть до сегодняшнего дня. И для этого есть свои основания и веские причины. Слишком уж много было фактов, не находивших и не находящих убедительного объяснения. И хотя, суть дела, в общем-то, ясна для людей неленивых и любопытных, загадочность смерти поэта сохраняется. И уж тем более, она не прояснена в общественном сознании, зависящем от старых и новых идеологем, а так же от лукавых средств массовой информации, серьёзное обсуждение насущных проблем истории и современности которыми уже давно не ведётся.
По всей видимости, мы вынуждены признать, что каких-то новых фактов, документов и свидетельств, проясняющих истинную картину трагедии смерти Блока разыскать уже невозможно. По той причине, что их просто нет. В такого рода «делах» их обыкновенно и не бывает. Но мы можем и должны обратиться к фактам известным, которые о многом могут рассказать, если не искажать их истинной сути и значения и не впадать в идеологическую предвзятость.
В конечном счёте, трагедия А. Блока определялась тем, что ему довелось жить в революционную эпоху, выходила из того невероятно трудного его положения, как большого художника, в котором он оказался в связи с развязанным революционным хаосом в стране, сказывающемся, прежде всего на сознании и в душах людей, ибо «Рождённые в года глухие Пути не помнят своего»… В эпоху крушения привычных, традиционных представлений, нарушения иерархии ценностей, всевозможных соблазнов – от построения «нового» мира до создания «нового» искусства. Пришлось жить в «испепеляющие годы». К тому же он обладал невероятной чуткостью к происходящему, зависимостью от него – такова уж природа истинного поэта. Болезненно и остро переживал он крушение мира, происходящие революционные события в России. Ещё в период первой революции, 17 октября 1906 года он писал В.Я. Брюсову: «Вероятно, революция дохнула в меня и что-то раздробила внутри души, так что разлетелись кругом неровные осколки, иногда, может быть, случайные».
Приходится останавливаться больше на особенностях и обстоятельствах литературной жизни того времени, на важных мировоззренческих положениях, так как в них больше, чем в чём-либо объясняется трагедия поэта. Самая ведь жёсткая борьба ведётся за тот образ мира, который человек исповедует. Так человек устроен, что жить в мире необъяснённом он не может. И это своё «объяснение», каким бы оно ни было, легко не меняет и уж тем более так просто от него не отказывается.
Криминальная же сторона дела для меня не столь важна, во всяком случае не первостепенна, ибо она – уже только следствие таланта поэта, его позиции и образа жизни. Хотя именно на неё особенно падки читатели. Но, сводя суть дела к криминальной стороне, мы неизбежно уходим от понимания всей полноты трагедии поэта, тем самым, умаляя его… Ничем не оправдано сводить судьбу поэта к обыденной стороне жизни уже хотя бы потому, что не в обыденности в большей мере, сказывается вся полнота его образа мира и его сила духа, но – в слове, в его творениях.
Два, можно сказать, основных соблазна пытали тогда естество человеческое. Это – «умирание» религии, веры, «смерть Бога» и «умирание» искусства. Это отразилось в дневниковой записи Блока 1913 года: «Искусство и религия умирают в мире, мы идём в катакомбы, нас презирают окончательно. Самый жестокий вид гонения – полное равнодушие». Видимо, была такая эпоха, такой период, такая точка в истории человеческой цивилизации, когда вдруг уверовалось в то, что без веры, религии и без искусства можно обойтись, что они – помехи на пути, к какой-то иной, более совершенной и прекрасной жизни – «синтетической», универсальной. И пройдёт немало времени, пока осознается, что это был некий зигзаг в истории духа человеческого, соблазн, стоивший неимоверных человеческих жертв. Что вера, искусство и наука не находятся в альтернативных, взаимоисключающем положении, что смешение их грозит потрясениями общества. Это и были те «ядовитые, страшные порывы, которыми богата современность наша и, может быть, будет богато и ближайшее будущее», - о которых писал поэт. Пройдёт немало времени, прежде чем уяснится, что причина этого зуда переустройства жизни находится не во вне, а в душах людей, что духовная «природа человека вечна» (В. Розанов).
Последствия же этого позитивистского соблазна сказываются в жизни и в искусстве, а в литературе в особенности, вплоть до сегодняшнего дня.
Что касается веры Блока, отношения его к религии, то – разве уж так безропотно он воспринимал их «умирание»? Нет, он воспринимал это несчастье с болью и даже отчаянием. То что «делалось» с людьми. И не видеть этого, не замечать этого, не переживать глубоко этого поэт, безусловно, не мог. Да, у него были свои претензии, не к вере, а к Церкви, и не безосновательные. Так же, как и у нас теперь есть претензии к ней, после её «возрождения». Он имел полное право и основание писать 17 февраля 1909 года В. Розанову: «Я не пойду к пасхальной заутрене к Исакию, потому что не могу различить что блестит: солдатская каска или икона, что болтается – жандармская епитрахиль или поповская ногайка». И это не было кощунством. Это только ортодоксально-фундаменталистский взгляд, не воспринимающий веры глубоко, но лишь формально, полагает, что человек веры не может высказать в защиту своей церкви критического слова. Такая «охранительная» позиция на деле оказывается вовсе не таковой и служит, в конечном итоге, плохую службу и самой церкви, и духовному здоровью человека.
А в последний год своей жизни, 8 января 1921 года он писал со «слепнущими от ужаса глазами» Н.А. Нолле-Коган: «Поймите, хотя я говорю это, говорю с болью и с отчаянием; но пойти в церковь всё ещё не могу, хотя она зовёт»…
И уж если говорить об удивительной цельности воззрений поэта, и его мира, о его пророчествах, нельзя не припомнить его стихотворения 1907 года:
Когда в листве сырой и ржавой
Рябины заалеет гроздь, –
Когда палач рукой костлявой
Вобьёт в ладонь последний гвоздь, –
Когда над рябью рек свинцовой,
В сырой и серой высоте,
Пред ликом родины суровой
Я закачаюсь на кресте, –
Тогда – просторно и далёко
Смотрю сквозь кровь предсмертных слёз,
И вижу: по реке широкой
Ко мне плывёт в челне Христос.
В глазах – такие же надежды,
И то же рубище на нём.
И жалко смотрит из одежды
Ладонь, пробитая гвоздём.
Христос! Родной простор печален!
Изнемогаю на кресте!
И чёлн твой – будет ли причален
К моей распятой высоте?
И тот факт, что через десять лет в поэме «Двенадцать», вроде бы, неожиданно появляется Христос, свидетельствует о том, что Он «причалил» к его «распятой высоте». Иными словами, вопреки всему – умонастроениям людей, граничащим с безумием, вызванным революционным хаосом, даже вопреки воле самого поэта, что он неоднократно отмечал, в конце поэмы появляется Христос. Блок от Христа не отрекается. Более того, его «страшные» мысли после создания поэмы однозначно свидетельствуют об этом: вроде бы должен быть Другой, но Другого нет, появляется опять Он… Поэт останавливается у края бездны, не находя «новой религии» и нового символа веры. То есть, ни о каком «богоискательстве», тем более о «богоборчестве» в привычном их понимании, в мире поэта говорить не приходится. Для этого нет просто никаких оснований ни в его творчестве, ни в его судьбе.
В этом смысле Блок оказывался в позиции уязвимой, так как в обществе набирали силу и становились господствующими другие идеи – «освобождения» человека от сковывающих его моральных и этических норм, создания «новой религии», устройство жизни на более разумных началах без Бога, духовное обновление человека в результате революции, перевоспитание и даже создание «нового человека».
Конечно, и Блок испытал на себе влияние таких идей, но считать его приверженцем их нельзя. Он находился скорее в состоянии их преодоления, чем исповедания. Таким образом, можно сказать, что, несмотря на все потрясения, на то, что «переворота большего, чем переживаем мы, русская история не знала, по крайней мере, двести лет (с Петра), а то и триста лет (Смутное время)», несмотря на все гримасы его жизни, мир в воззрениях поэта оставался традиционным, во всяком случае, не перевёрнутым в главных мировоззренческих основах. В отличие, скажем от М. Горького, так уверовавшего в человека (идею человекобога, а не богочеловека), что приходил к выводу, что можно вполне обойтись и без Бога на пути бесконечного совершенствования личности. Традиционную же религию заменит «новая религия» – социализм. О многом говорит в этом смысле его письмо к И.Е. Репину от 24 ноября 1899: «Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека. Он – всё. Он создал даже Бога… Я уверен, что человек способен бесконечно совершенствоваться, и вся его деятельность – вместе с ним тоже будет развиваться, – вместе с ним из века в век. Верю в бесконечность жизни, а жизнь понимаю как движение к совершенствованию духа». Похвальна и вроде бы гуманна вера писателя в человека, да только мы теперь знаем, что на этом пути без Бога, без веры, без религии или – с заменителем её человека ждало такое жестокое «совершенствование», что не могло и представиться самим его теоретикам…
Что же касается запоздалой критики христианских воззрений Блока нашими современниками, видимо, со всей определённостью следует сказать, что поэта, выросшего в христианской культуре не могут упрекать в «кощунстве» люди, жившие в атеистическом веке и только вчера открывшие Евангелие. Большей частью, такие критики даже не подозревают того, в какое кощунство при этом они сами впадают, ибо не могут в полной мере представить то, почему и как в мире «умирает» религия, и какие потрясения оказывает это на человеческую душу.
В не менее жёсткое положение попадал поэт, активно и последовательно отстаивая право культуры на своё существование, природы искусства, русской литературной традиции. Извечное и обычное недопонимание поэта современниками, свойственное всем временам, которое он воспринимает как должное, в революционную эпоху принимало более трагические формы. В дневнике 24 декабря 1911 года А.Блок записывает: «Человека, которого Бог наградил талантом, маленьким или большим, непременно, без исключений на известном этапе его жизни начинают поносить и преследовать – все или некоторые. Сначала вытащат, потом преследуют – сами же. Для таланта это драма, для гения – трагедия. Так должно, ничего не поделаешь, талант – обязанность, а не право».
Но совсем другое дело отстаивать культуру, классическую литературу и театр в революционное время, в условиях по сути всеобщего психоза, когда многих охватывал зуд переустройства жизни, отречения от старого мира, а заодно отречение и от духовного и культурного наследия народа. Поэт, так или иначе, входил в конфликтное положение с рьяными переустроителями жизни, с адептами «нового» искусства и «современного» искусства, утверждая, что «несовременного искусства не бывает…»
Известно, что всякая апелляция к современному искусству исключительно, как правило, спекулятивна, служит прикрытием отсутствия таланта или его малых масштабов и имеет, в конечном счёте, вульгарно-социологическую основу. При этом ведь предполагается, что с помощью искусства человек должен постигать современную жизнь, в то время как это – далеко не основное свойство искусства. И есть немало других более надёжных способов и форм постижения современности помимо искусства. Искусство же даёт человеку то, что другие формы постижения мира ему дать не могут – ни религия, ни наука. Это – прежде всего ощущение своего кратковременного земного бытия моментом вечности, результатом не прихотливой игры природы, но некой закономерности, внося в сознание и душу человека не успокоение, но стройность и основательность. В этом и состоит его ничем незаменимость и необходимость во все времена, даже в такие, когда кажется, что можно обойтись и без искусства, когда вроде бы не до него. Может быть, именно в такие революционные периоды особенно необходимо отстаивание искусства. Но оно требует от человека мужества и даже бесстрашия. А потому, соотношение временного, преходящего и вневременного, вечного для истинного художника является основным. Об этом А. Блок записывает в дневнике ещё в 1912 году: «Пока не найдёшь действительной связи между временным и вневременным, до тех пор не станешь писателем, не только понятным, но и кому-либо и на что-либо, кроме баловства, нужным».
Но Блок не просто высказывал своё мнение об искусстве, о его положении в революционную эпоху, но находясь на официальной службе, влияя на репертуар Большого драматического театра и на книгоиздание во «Всемирной литературе», отстаивал право классического искусства на существование. И нередко на фоне господствующих представлений его позиция выглядела вызывающей, во всяком случае, была очень уязвимой пред всякого рода демагогией, господствующей в те времена. Ну в самом деле, обращаясь к актёрам Большого драматического театра он настаивает, что «такому театру, как Большой драматический, не нужно исканий». И это в то время, когда эти самые «искания» были столь в ходу, служили безусловным показателем художественных достижений. Или – в то время, когда столь абсолютизировалась современность, видит в ней, в «современной психологии», чуть ли не опасность для драматического театра: «Спуститься с этих вершин в долины лирики и ещё глубже – долины современной психологии, мы всегда успеем… Напротив, растёкшись с молодых лет по долинам лирики, по сложным извилинам и ущельям современной психологии, вы никогда уже не сумеете подняться на те вершины, близ которых вы стоите сейчас».
А составляя список русских авторов для издания, отстаивает не только литературную, духовную, но и историческую преемственность, так или иначе отрицая перерыв в постепенности развития в истории народа, что тоже не могло не идти в разрез с представлениями и убеждениями, тогда расхожими: «Однако мы надеемся, что мы – люди не только сегодняшнего дня. Именно потому мы считаем, что не имеем права суетиться в дыму пожара, который нас окружает, среди чёрных груд шлака людского, которым засыпана земля. …Имеем ли мы право предавать забвению добытое кровью? Нет, не имеем. Надеемся ли мы, что добытое кровью сослужит ещё службу людям будущего? Надеемся».
Этим тоже ведь, если не главным образом, определялось его трагическое положение, как поэта. А между тем, как он горько замечает, «искусству сейчас в жизни места не осталось». Не только о положении художника в России во все времена, но прежде всего о своём времени, да и о себе говорил Блок, отмечая, что в отличие от нас, в Европе «понимают и уважают эту простую и тяжёлую человеческую трагедию». «Не то у нас; художник у нас «и швец, и жнец, и в дуду игрец». «Будь пророком, будь общественным деятелем, будь педагогом, будь политиком, будь чиновником, - не смей быть только художником!» Первый вопрос при первом знакомстве: «Где служите?» Так было, так есть до сих пор».
Конечно, тут Блок говорил, прежде всего, о себе. Но ситуация в то время была таковой, что не служить поэт, если хотел выжить, уже не мог…
«Марксисты – самые умные критики, и большевики правы, опасаясь «Двенадцати». Но… трагедия художника остаётся трагедией» – записывает он в дневнике. И уже прямо-таки с болью и мольбой в записной книжке: «Марксисты умные, – может быть, и правы. Но где же опять художник и его бесприютное дело?» Искусству в современной ему действительно места не находилось, поэту места не оставалось… И в такой ситуации Блок настойчиво отстаивает классическое искусство и театр, духовную преемственность и литературную традицию.
Только уже одно то, с какой последовательностью и настойчивостью Александр Блок отстаивал право культуры и литературы на своё существование в то время, когда подлинной культуре и истинной литературе места в жизни не находилось и было, что уж там, небезопасным, однозначно свидетельствует о том, что к революционному типу человека он не относился. Революционеры от литературы поступали совсем иначе. Они всецело верили в «новое» искусство, абсолютизировали своё время, классику «сбрасывали с корабля современности», чему, не было и нет извинения и прощения для людей, считавших себя литераторами. Блок наоборот, несмотря ни на что пел «тайную свободу» вослед Пушкину: «Пушкин! Тайную свободу Пели мы вослед тебе!» В конце ведь концов, для Блока тоже было «такое время» и, казалось бы, так соблазнительно было пуститься по волнам его «веления», спуститься в долины «современной психологии». Тем более, что он остро чувствовал зависимость человека от эпохи, в которую ему довелось жить: «Неизвестно, наконец, в большей ли мере определяются действия человека его личной волей, чем исторической необходимостью. Человек во многом – раб своей эпохи и часто судьба ведёт его туда, куда он идти не хочет». Но Блок проявляет духовный, художнический и гражданский стоицизм, осознавая всю меру ответственности поэта за каждое его слово. А потому ссылки на то, что «время такое» не могут быть извинительными и сколько-нибудь серьёзными. Более того, на такой час поэт и приходит, чтобы отстоять своё бесприютное дело, а вместе с тем и иерархию ценностей в период революционного психоза и умопомрачения. Это дежурная мотивация при всяких революциях, в том числе и «демократической» революции наших дней.
Наконец, в завещательной речи, посвящённой А.С. Пушкину «О назначении поэта» 10 февраля 1921 года он подрывал сами основы целой армии деятелей культуры, пробивавшихся художническими «поисками»: «Никаких особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того, чтобы создавать произведения искусства надо уметь это делать». Может быть, понимая, сколь «несвоевременны» эти «три истины», он и провозглашает их «ради забавы»…
Александра Блока вообще нельзя рассматривать с точки зрения принятия или непринятия им революции, иначе мы впадаем в упрощение его мира, ничем не оправданное, скатываемся в идеологию и политику, откуда поэт просто неразличим…
Кроме того Блок, как великий поэт, глубоко и остро чувствовал саму природу поэтического творчества, тоже входящей в противоречие с эпохой, с преобладающими в обществе той поры понятиями. Он определяет это как проклятие – искусства, которое несёт в себе художник. Оно заключается в том, что «искусство слишком много отнимает у него в жизни». А так же в извечном противоречии между искусством и жизнью, которое было не таким простым, и даже страшным: «Страшное противоречие между искусством и жизнью». Состояло оно, надо полагать в неслиянии искусства с жизнью без риска потерять само искусство, на что провоцировало художника позитивистское, материалистическое сознание. Это противоречие искушает. Поэт говорил о себе как о человеке, которого уже много раз искушало это «страшное противоречие – противоречие между искусством и жизнью, между мечтой и действительностью, – знакомое всем художникам во все возрасты их жизни».
Мне кажется, что М. Горький, к примеру, не знал этого противоречия и этого искушения. Или не придавал ему значения первостепенного. И тем самым невольно открывал путь вульгарному социологизму в последующем. Так обычно и бывает с такого рода идеями и представлениями – в умных исповедниках их они кажутся жизненными и оригинальными, но в подражательных последователях вырождаются непременно и неизбежно.
В отношении к Блоку существует какая-то удивительная несправедливость непонимания, сохраняемая вплоть до нашего времени, продиктованная какой-то явной предвзятостью и тенденциозностью. Причём не берётся в расчёт путь поэта, та громадная эволюция, которая произошла с ним от юношеских увлечений до зрелого возраста. Блок уже давно отошёл от петербургских мистиков, давно порвал с либеральствующими декадентами, с которыми изначально был не очень-то и близок, не придавая значения «дряному факту интеллигентских религиозных исканий», а ему, вплоть до кончины, всё ещё припоминалась среда, в которой он жил. Даже тогда, когда и среды-то этой уже не было, она припоминалась ему, как якобы несущему в себе её родовые пятна.
В письме к А.В. Гиппиусу ещё 23 февраля 1904 года он писал об этой самой среде религиозно-философского общества Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского: «Я жил среди «петербургских мистиков», не слыхал о счастье в теории, все они кричали (и кричат) о мрачном, огненном «синтезе». Но пока я был с ними, вёсны веяли на меня, а не они. Веяла «Лучезарная Подруга», и стихи я посвящал ей, а не Зинаиде». А в записной книжке 26 июня 1907 года Блок, более чем определённо, выражает своё отношение к декадентствующей интеллигенции: «Хвала создателю! С лучшими друзьями и «покровителями» (А. Белый во главе) я внутренно разделался навек. Наконец-то! (разумею полупомешанных – А. Белый, и болтунов – Мережковские)».
И что уж говорить о других писателях, к примеру, Горьком, относившемуся к Блоку явно предвзято, если даже Василию Розанову поэт вынужден был с горечью писать: «А упоминая о «декадентстве», «индивидуализме» и т.д. – метите мимо меня» (17 февраля 1909 года).
То есть, совершенно необоснованно абсолютизировалась его причастность к мистикам и декадентам. Сам факт былого общения с ними выдавался уже позже за принадлежность к ним. Совершенно не увидено преодоление поэтом и мистики, и декадентства. Да и то, что он отстаивал извечное представление об искусстве и человеческих ценностях в то время, когда они подверглись сомнению и осмеянию, разве это хоть в какой-то степени свидетельствует о его декадентстве... А в письме к Е.П. Иванову 25 июня 1906 года поэт признавался: «Ненавижу своё декадентство и бичую его в окружающих, которые менее повинны в нём, чем я». В дневнике 1917 года»: «Я боюсь каких бы то ни было проявлений тенденций «искусства для искусства», потому что такая тенденция противоречит самой сущности искусства и потому что, следуя ей, мы в конце концов потеряем искусство.
Блока также всё ещё настойчиво относят к интеллигенции. Причём, принадлежность к интеллигенции зачастую, если не повсеместно, выдаётся за особенность его поэтического мира, а вовсе не за социальное положение. При этом, не уточняется к какой именно интеллигенции он принадлежал; что с декадентствующей интеллигенцией его разделил не только 1917 год, но уже 1905 год, по его собственному определению. Разумеется, Блок не относил себя к той интеллигенции, которая поставила себя по отношению к народу в положение борьбы, о чём он писал, к примеру, 14 ноября 1918 года в предисловии к книге статей «Россия и интеллигенция»: «Интеллигенция»… опять таки, особого рода соединение, однако, существует в действительности и, волею истории, вступило в весьма знаменательные отношения с «народом», со «стихией», именно – в отношения борьбы».
О том, как поэт «выходил» из интеллигенции, обращаясь к народу, разделяя его судьбу, является духовно-мировоззренческим фактом огромной важности. Можно даже говорить об «опрощении» Блока. Но у нас о довольно лукавом «опрощении» Льва Толстого, «опрощении» с мошной в кармане, написаны горы литературы, а «опрощение» Александра Блока, его действительное обращение к народу как предмет изучения и постижения, кажется и вовсе не замечено, хотя именно оно было одним из основных состояний его творчества и судьбы. «Какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго народа?» – писал он жене 21 июня 1917 года…
Блок хорошо помнил, что в России помимо бюрократии «как таковой» есть ещё и бюрократия «общественная», формирующая общественное мнение, зорко стоящая на его страже и не прощающая «инакомыслия». В этом отношении характерно паническое письмо Андрея Белого к поэту от 17 марта 1918 года, в котором тот предупреждает его об опасности. «Дорогой, милый, близкий Саша, какая странная судьба. Мы вот опять перекликнулись. Читаю с трепетом Тебя. «Скифы» (стихи) – огромны и эпохальны, как «Куликово Поле». Всё, что ты пишешь, взмывает в душе вещие те же ноты: с этими нотами я жил в Дорнахе: я это знаю. То же, что Ты пишешь о России, для меня расширяется до Европы. Там назревает крах, такой же, как и у нас: я это знаю… наверное… Ещё многое будет… «То было в Богемии дальней…» (твои стихи)…
Сказка или сон?
«Доспех тяжёл, как перед боем!.. Теперь – молись…» В горах Швейцарии я давно уже распрощался со старым миром. …В Англии воочию видел: «Пора смириться, сёр…» и «И в собрании каждых людей эти тайные сыщики есть…» Если Россия и Европа не стряхнёт с себя «железную пяту» – скоро мы увидим открытые человеческие жертвоприношения… Лучше анархия, гибель, смерть, чем то, что замыслил «сёр» из Твоего стихотворения: казнь первенцев замыслена…
По-моему, ты слишком неосторожно берёшь иные ноты. Помни – Тебе «не простят» «никогда»… Кое-чему из Твоих фельетонов в «Знам<ени> Труда» и не сочувствую, но поражаюсь отвагой и мужеством твоим.
Помни: Ты всем нам нужен в … ещё более трудном будущем нашем… Будь мудр: соединяй с отвагой и осторожность. Крепко обнимаю Тебя и люблю, как никогда.
Твой «невольный» брат Б.Б<угаев>».
Кто это такие они, о ком, предупреждал А. Белый поэта? Кто они, которые не простят никогда? Бюрократия «как таковая» или бюрократия «общественная»? Но, в то время, в условиях всё ещё длящегося хаоса и разрушенности жизни бюрократии «как таковой» уже и ещё не было, была бюрократия «общественная», которая и представляла тогдашнюю власть. В этом, как мне кажется, и состояла сложность, непонятность и трагичность времени.
А опасность была ведь нешуточной, о которой предупреждал Андрей Белый. Он сам так её испугался, что написал потом подобострастную по отношении к власти книгу мемуаров «На рубеже двух столетий», которую без некоторого смущения, что ли, читать невозможно. И совершенно справедливо М. Горький оценил эту книгу, как «самозащиту» или «хуже того»…
Как известно, поэма «Двенадцать» и статья «Интеллигенция и революция» Александра Блока были встречены шквалом возмущения и негодования. Поэта обвиняли в предательстве и приспособленчестве. Причём, обвиняли все. Поэт воспринимал это как должное, но огорчался, когда в этом участвовали его литературные соратники, истинные художники, к которым он относился внимательно и участливо. 11 мая 1918 года он отмечает в записной книжке: «Поразительное известие от Разумника Васильевича (вчерашний номер «Дела народа») – отказ Пяста и Ахматовой от меня. Сологуб тоже)». Имеется в виду то, что названные поэты должны были выступать на вечере литературного кружка «Арзамас», но, узнав о том, что в программе вечера будет чтение поэмы «Двенадцать» женой поэта Любовью Дмитриевной, от участия отказались. Даже Михаил Пришвин выступил против статьи «Интеллигенция и революция» с ответом поэту под названием «Большевик из «Балаганчика» в газете «Воля страны». Но как видно по всему, к тому времени он – ещё недостаточно опытный литератор сделал это по наущению членов религиозно-философского общества, о чём и признавался в письме поэту: «Сотую часть не передал я в своей статье того негодования, которое вызвала Ваша статья у Мережковского, у Гиппиус, у Ремизова, у Пяста. Прежде, чем сдать свой ответ в типографию, я прочёл его Ремизову, и он сказал: «ответ кроткий». Таким образом, поэт оказался не только в полном одиночестве, но – во враждебном окружении. Во всяком случае, был окружён полным непониманием, непониманием того, о чём он писал М. Пришвину: «Вы же не знаете того, что за «балаганчиком», откуда он: не знаете, значит, и того, что за остальными стихами, и того, какую я люблю Россию, и т.д. Я не менялся, верен себе и своей любви, также – и в фельетоне, который Вам так ненавистен».
Можно сказать, что выступления Блока этой поры и в особенности поэма «Двенадцать» с её образом Христа вызвала такое негодование именно потому, что поэт оставляет Христа с народом, падшим, озверевшим в революционном хаосе, но с народом. У самих же революционеров она вызывала ненависть по самому факту появления в ней Христа, так как революция их была богоборческой и атеистической по самой её природе. Блок «принял» не революцию, а Россию такой, какой она тогда была; в той трагедии, в какой она оказалась. И тем самым, как бы исполнил завет В. Розанова, писавшего о том, что невелика заслуга любить мать здоровой и красивой, истинный сын любит её и больной, более того, даже тогда, когда она окажется обглоданной, и от неё останутся одни кости, не отходит и от этих костей…
По логике критиков Блока, в том числе и его литературных соратников, новым хозяевам России, совершивших революцию, которую поэт, якобы «принял», в чём нас убеждают вот уже девяносто лет, он должен быть близок, во всяком случае, не должен быть враждебен. На самом же деле всё было не так. В этом стане он был ещё более чужим, чем в том. Уже после смерти поэта, в 1922 году Л.Д. Троцкий, как видно, под давлением уже сложившегося мнения о том, что Блок создал самое значительное произведение своей эпохи поэму «Двенадцать», вместе с тем однозначно говорил о том, что поэма направлена против революции: «Поэма «Двенадцать» останется навсегда… Блок даёт не революцию, и уж, конечно, не работу её руководящего авангарда, а сопутствующие ей явления, по сути, направленные против неё.»
Всесильная в то время О.Д. Каменева, сестра Л.Д. Троцкого, руководившая театральной жизнью Петрограда, настаивала на том, чтобы поэма не звучала в аудиториях. Кстати, оказываясь в этом, заодно, с литературными соратниками поэта. Что уж говорить о своре других критиков, подхвативших это революционное толкование поэмы: «Блок не сумел в «Двенадцати» оправдать революцию, как она есть, и привнёс в это оправдание картинного Христа, но это вытекало из всех тех традиций и навыков, от которых целиком поэт не сумел освободиться» («Москва», № 8, 1991). Такая оценка поэта вытекала из отрицания предшествующей культуры и признание только «новой», пролетарской культуры, что неизбежно влекло за собой положение, в общем-то страшное: эти, старые, отжившие своё поэты должны уйти, а на смену им прийти «новые»… Даже М. Горький исповедовал такое положение. Удивительно, что подобная оценка поэта всё ещё сохраняется, по сути, по сей день. Причём, упрёки в «кощунстве» слышатся от людей, настроенных вроде бы патриотически. Почему в оценке великого поэта они оказались заодно с декадентствующей интеллигенцией и с Л.Д. Троцким, неведомо. Видно, идеологизированность в культуре советской поры так въелась в сознание и души, что изжить её не так просто, что вместе с патриотическими декларациями она не отстаёт…
Эта неприязнь к поэту в стане революционеров, в конечном счёте, определялась темой России в его творчестве – традиционной и вместе с тем меняющейся в то время, когда традиционная Россия уничтожалась. Темой, которой он посвятил всю жизнь, о чём писал ещё 9 декабря 1908 года в письме к К.С. Станиславскому: «Не откроем сердца – погибнем (знаю это как дважды два четыре). Полутораста миллионная сила пойдёт на нас, сколько бы штыков мы не поставили, какой бы «Великой России» (по Струве) ни воздвигли. Свято нас растопчет; будь наша культура – семи пядей во лбу, не останется от неё камня на камне.
В таком виде стоит передо мной моя тема, тема о России (вопрос об интеллигенции и народе, в частности). Этой теме я сознательно посвящаю жизнь».
О положении Александра Блока в культурной и социальной жизни тех лет красноречиво свидетельствует история творческих и личных взаимоотношений его с М. Горьким. Благо тема эта разработана основательно, в частности, в работе А.М. Крюковой «К истории отношений Горького и Блока» («Вопросы литературы», № 10, 1980), «К истории личных и творческих отношений Блока и Горького». («Литературное наследство», том девяносто второй, М., «Наука», 1987). Ну, разве только некоторым фактам, в сущности, ужасным, не придаётся их истинного значения дабы «защитить» реалиста М. Горького. А, может быть, сказалось то, что исследование, как видно по всему, принадлежит в большей мере специалисту по творчеству М. Горького, чем А. Блока.
Как известно, Блок не только внимательно следил за творчеством Горького, но давал удивительно точные оценки его произведениям, как и его личности вообще. Первый отзыв поэта о Горьком в печати относится ещё к 1905 году. При всей положительности отзыва поэт отмечает «немного абстрактный пафос» писателя и то, «что Горький подал сигнал к своему теперешнему падению именно тем, что, что искренне ненавидя абстрактное, бездушное, рабское, – он сам своей рукой загнал себя на какую-то отвлечённо-моральную кафедру под кулак какого-то огромного, прожорливого и бессмысленного деспота – «человека», который, несмотря на свою дебелость, всё-таки остался абстракцией и пустотой. Позволено ли покидать прекрасный и свободный ужас Вечной Матери-Земли для рабства кажущемуся «прогрессу». Наблюдение точное, так как человек без веры в творчестве М. Горького при всём его мастерстве не мог не превращаться в некоторую абстракцию. Блок вырабатывает свою концепцию понимания Горького, «как писателя из народа». Особенно в статье 1907 года «О реалистах» он даёт самую высокую оценку, какой только может быть удостоен писатель, утверждая, что он писатель народный, русский: «…Если и есть реальное понятие «Россия», или, лучше, – Русь… то есть если есть это великое, необозримое, просторное, тоскливое и обетованное, что мы привыкли объединять под именем Руси, – то выразителем его приходится считать в громадной степени – Горького… Горький больше того, чем он хочет быть и чем он хотел быть всегда, именно потому, что его «интуиция» глубже его сознания: неисповедимо, по роковой силе своего таланта, по крови, по благородству стремлений, по «бесконечности идеала»… и по масштабу своей душевной муки, – Горький – русский писатель».
Понимание Горького накладывается на понимание Блоком вообще ситуации в России, связанное с соотношением народа и интеллигенции, о чём поэт говорил в приветствии по случаю пятидесятилетия писателя в марте 1919 года: «Судьба возложила на Максима Горького, как на величайшего художника наших дней, великое бремя. Она поставила его посредником между народом и интеллигенцией, между двумя станами, которые оба ещё не знают ни себя, ни друг друга…». А ранее в статье «Народ и интеллигенция»: «Положение Горького исключительно и знаменательно, это писатель, вышедший из народа, таких у нас немного».
Примечательно и то, что именно в Горьком он видит альтернативу всякого рода декадентству в литературе. В дневнике 4 марта 1912 года поэт отмечает: «Спасибо Горькому и даже «Звезде». После эстетизмов, футуризмов, аполлонизмов, библиофилов – запахло настоящим».
К 1919 году относится личное общение Горького и Блока в связи с активной работой поэта в организованном Горьким издательстве «Всемирная литература». В это время Блок непременно преподносит Горькому свои книги «в знак давней любви и глубокого уважения». И мнения о писателе не меняет до конца своей жизни.
Совсем иным было отношение Горького к Блоку. Отрицательным и даже враждебным. «Отношение Горького к Блоку было отмечено несравненно большими противоречиями и напряжённостью, достигавшими порой драматического накала», - деликатно замечает А.М. Крюкова. То есть, отличалось явной предвзятостью и несправедливостью, продиктованными идеологическим и даже политическим подходом к литературе, чего писатель и не скрывал, полагая, видимо, что это самый верный критерий в оценке творений духа.
Но теперь, по прошествии времени, мы видим, что оценки Блока литературных явлений его времени абсолютно точны, пожалуй, без исключений. И не потеряли своего значения до сих пор. Оценки же Горького устарели, а имена, которые он выдвигал как надежду литературы, альтернативу Блоку, и вовсе не удержались в литературе. Но это ведь самое главное, если мы говорим о литературе, а не рассматриваем её лишь как помощницу в делах якобы более важных, чем она сама.
Блок сумел понять и по достоинству оценить Горького, а Горький не сумел, по сути, просмотрел поэта, давая его произведениям резко отрицательную оценку. В ответ на просьбу Леонида Андреева привлечь Блока в сборники «Знамя» Горький отвечает: «Моё отношение к Блоку – отрицательно, как ты знаешь. Сей юноша, переделывающий на русский лад дурную половину Поля Верлена, за последнее время прямо-таки возмущает меня своей холодной манерностью…». По другому поводу: «Блок – не очень ловко перепевает Верлена, времён его мистических настроений».
Блок отрицательно относился ко всякого рода мистическим поветриям. Во всяком случае, в зрелом возрасте. В связи с этим любопытна ситуация, описанная Горьким в очерке о поэте. Не с точки зрения биографической, а мировоззренческой. Горький, увлечённый идеей «чистого разума», то есть торжества разума над материей, когда не будет людей, а будет только одна мысль, высказал эту мысль Блоку:
– Не понимаю, – повторил Блок, качнув головою…
– Мрачная фантазия, – сказал Блок и усмехнулся…
Он вздохнул:
– Если б мы могли совершенно перестать думать, хоть на десять лет. Погасить этот обманчивый болотный огонёк, влекущий нас всё глубже в ночь мира, и прислушаться к мировой гармонии сердцем».
Такой ответ – «мрачная фантазия» – Горький находит в его устах «странной оценкой». «Бытовику» Горькому, по определению, вроде было позволяемо говорить о вещах столь абстрактных и мистических, на которые «декаденту» Блоку приходилось возражать. Так кто же из них, в таком случае, был в большей мере реалистом? Надеюсь, ответ очевиден.
Поэт же только и сказал в этом возражении о духовной природе человека, о том, что разум человеческий, неподконтрольный душе может завести в любые бездны, может привести к катастрофе человеческой цивилизации вообще. Но Горькому, абсолютизировавшему разум, такая полнота человеческого бытия была «странной».
Конечно, Блоку было тяжело общаться с Горьким, о чём он делает пометки в записных книжках: «Очень тяжёлые мысли о Горьком». Еще тяжелее было с М.Ф. Андреевой, женой Горького, о чём он пишет ей в отчаянном письме 24 апреля 1919 года: «Вчерашнее заседание убедило меня в том, что главное, в чём бы я мог принести некоторую пользу, уже сделано, а в остальном, что надо создавать, я совершенно не сведущ».
Мысль, ведь, в основе своей ужасная, выражающая всю степень трагической неразрешённости его положения, в котором он оказывался по прихоти людей культуры, находившихся тогда в чести у власти и от которых зависела его жизнь…
Сложность и тяжесть отношений с М. Горьким у Блока проистекала и от самого понимания назначения художника, которое при любых обстоятельствах остаётся незыблемым; от самого понимания служения художника, которое всегда остаётся внутренним, но не внешним, не социальным. «Учительствование» М. Горького пред необразованными людьми действительно загоняло его на какую-то нравоучительскую кафедру. 8 ноября 1919 года Блок записывает о вечере памяти Леонида Андреева: «Опять сумасшествие. Кучка людей в шубах и шинелях слушает Горького, которому солдат раздавил ногу». Потому и слышится у Блока здесь ирония, что в таком положении писателя он видел некоторую неправду. Об этом он размышляет в записной книжке 10 декабря 1913 года: «Когда я говорю со своим братом – художником, то мы оба отлично знаем, что Пушкин и Толстой – не боги. Футуристы говорят об этом с теми, для кого втайне и без того Пушкин – хам («аристократ» или «буржуа»). Вот в чём лесть и, следовательно, ложь».
Поразительное начнётся потом, когда поэта не станет. Та же Андреева напишет Горькому 10 мая 1924 года с некоторым раскаянием: «Прочла недавно все книжки Блока. Жалею, что не сделала этого раньше, тогда при встречах с ним, должно быть, иначе бы с ним разговаривала. Мне он всегда почему-то казался фармацевтом-неврастеником, несмотря на весь его талант. И сейчас – мне неловко за это». Это как – не прочла ранее? «Казался» – было, аргументом для приговоров?..
Но, ведь, похоже, что и приговоры поэту М. Горького выходили из недостаточно внимательного его прочтения. Во всяком случае, позже, обдумывая «Жизнь Клима Самгина» и размышляя над «Двенадцатью» Блока, Горький так приводит её финал:
Впереди идёт Христос
В алом венчике из роз.
Вместо блоковских строк:
В белом венчике из роз
Впереди – Исус Христос.
Как видим, никуда у Блока Христос не «идёт». Но пролетарскому писателю было всё едино – в белом или алом венчике…
Поражает и разброс мнений в отзывах Горького о Блоке – от враждебных до восхитительных. Ну писал же он в 1919 году Дм. Семеновскому: «Блоку – верьте, это настоящий – волею божией – поэт и человек бесстрашной искренности». Невольно закрадывается подозрение, что тот или иной отзыв был продиктован теми или иными соображениями внелитературного порядка, о которых теперь уже не дознаться.
Поразительно ведь и то, что при жизни поэта Горький публично, печатно так ни разу о нём и не высказался… Но зато после смерти поэта происходит своеобразное возвращение Горького к нему. Он внимательно читает его изданные дневники, следит за всеми его изданиями. Вместе с тем в беседах с начинающими писателями почему-то называет Блока «врагом»… Не на фоне ли усиливающейся «классовой борьбы»?..
Как заметила А.М. Крюкова, трудно сказать, что превалировало в это время в интересе Горького к Блоку. Несомненно, лишь, одно: «Начиная с 1919 года и до конца жизни, Горький пристально вглядывается в судьбу Блока – с точки зрения соотнесённости его художественного и человеческого опыта со своей собственной судьбой». По всей видимости, исследовательница здесь очень близка к истине. Вполне возможно это запоздалое возвращение к Блоку было вызвано тем, что со временем Горькому тоже открылось то, что Блоку было ясно ранее, и о чём он писал 13 августа 1920 года в отзыве о В. Соловьёве: «Каждый из нас чувствует, что конца этих событий ещё не видно, что предвидеть его невозможно, что свершилась лишь какая-то часть их, – какая, большая или малая, мы не знаем, но должны предполагать скорее, что свершилась часть меньшая, чем предстоит».
Очень примечательно, что своеобразное возвращение к Блоку пережил не только Горький и Андреева, но и Михаил Пришвин. «Есть люди, – записывает Пришвин в дневнике, – от которых являются подозрение в своей ли неправоте, или даже в ничтожестве своём и начинается борьба за восстановление себя самого, за выправление своей жизненной линии. Такой для меня Блок». Всю дальнейшую жизнь, что видно по дневникам, у Пришвина продолжался молчаливый, и тоже запоздалый, разговор с поэтом…
Трудно сказать, было ли запоздалое возвращение Горького к Блоку его постижением поэта. Ясно, почему этого постижения не произошло вовремя. Горькому по его идеологизированности неведомо было то, что было ведомо Блоку, о чём он писал Андрею Белому ещё 29 сентября 1904 года: «Я пробовал искать в душах людей, живущих на другом берегу, – и многое находил». Во всяком случае, отвечая в 1928 году Р. Роллану на его вопрос о трагической кончине Блока, Горький отделался, можно сказать, дежурной или официальной версией. Впрочем, тут могли быть и соображения некоего дипломатического порядка. Причиной того, что Блока не отпустили на лечение за границу, Горький объясняет отъездом Бальмонта, который имел плохие последствия для Блока и Сологуба: «Опираясь на факт лицемерия Бальмонта, Советская власть отказала Блоку и Сологубу в их просьбе о выезде за границу, несмотря на упрямые хлопоты Луначарского за Блока. Это я считаю печальной ошибкой по отношению к Блоку, который – как видно из его «Дневника» – уже в 1918 году страдал «бездонной тоской», болезнью многих русских, её можно назвать атрофией воли к жизни». Но ведь Сологуба отпустили, а с отъездом Блока на лечение дотянули до того времени, когда он уже не понадобился…
В черновиках же письма Горький отмечает ещё «крайний пессимизм», который был свойствен поэту и «до большевиков». Есть в черновике письма и поразительный аргумент: «Я никогда не слыхал от Блока осуждения Советской власти. Мне кажется, что у него была совершенно атрофирована воля к жизни». Но разве здесь одно с другим связано и одно вытекает из другого? Очевидно, что нет. Во-первых, вся судьба Блока, его позиция, его отношение к революции в широком смысле слова не могли привести и не приводили его к осуждению Советской власти. Как человек абсолютной совестливости, он ведь осознавал и свою меру вины за случившееся в стране, прямо говоря о том, что нечестно указывать на кого-то пальцем и говорить, что это сделано кем-то, а не нами… Во-вторых, тут чувствуется какой-то нехороший подтекст: неужто кто-то желал того, чтобы и Блока постигла участь Николая Гумилёва?
Безусловно, Блок переживал глубокий надрыв и страшные мысли в связи со случившимся в стране. Конечно, он видел, что никакого «духовного обновления» не произошло, а произошла катастрофа, разорение, падение человека. Конечно, он сомневался в истинном смысле и значении происшедшего: «Если даже не было революции, т.е. то, что было, не было революцией, если революционный народ действительно только расселся у того же пирога, у которого сидела бюрократия, то это только углубляет русскую трагедию».
Конечно, было и разочарование. Но вместе с тем поэт не мог не видеть того, чего многие увидеть не смогли, о чём он писал жене 28 мая 1917 года: «Есть своя страшная правда и в том, что теперь носит название «большевизма». Если бы ты видела и знала то, что я знаю, ты бы отнеслась всё-таки иначе; твоя точка зрения несколько обывательская, надо подняться выше». Эту «страшную правду» он различал, исходя из реального положения, а не из желаемого или возможного развития хода событий, большинству людей свойственных.
Он трудно переживал ту нищету, в которой оказался. 14 апреля 1918 года делает пометки в записной книжке полные отчаяния: «Я уже стар мне ж так трудно добывать хлеб; слушать разговоры умных и глупых, молодых и старых людей я больше не могу: умру с голоду». А 30 апреля: «Ни пищи, ни денег»… Наконец, в Пушкинской речи он говорит и о себе: «И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл».
Всё это так, и для чуткого поэта это действительно могло стать причиной смерти, если бы не странные симптомы болезни, которые не могли установить даже врачи, и если бы не столь быстрое развитие болезни, закончившейся трагедией.
2.
Ну а теперь – об «истории болезни» поэта. Прежде всего, следует сказать о том, что нет никаких оснований выискивать причины столь ранней и трагической кончины Блока в его «крайнем пессимизме», «бездонной тоске» или «смертной тоске». Нет оснований потому, что это относится к самой природе поэтического творчества. Поэту по самой его духовной организации присущи колебания духа – от «разгулья удалого» до «сердечной тоски». И чем больше дарование поэта, тем у него шире эта, скажем так, амплитуда колебаний. А значит и тоска – «бездонней». Наивно в тоске поэта выискивать диагноз и причину его смерти. В дневнике 14 июня 1912 года, к примеру, Блок записывает: «Ночью (почти всё время скверно сплю) ясно почувствовал, что если бы на свете не было жены и матери, – мне бы нечего делать здесь». По предложенной логике, – что здесь можно усмотреть? Разве что склонность к суициду…
А ещё ранее – переполненное отчаянием письмо к жене от 23 июля 1908 года, даже с предчувствием того, что недолгую ему жизнь Господь судил. Неужто, и это глубокое переживание поэта можно свести всего лишь к медицинскому факту: «Всё это время меня гложет какая-то внутренняя болезнь души, и я не вижу никаких причин для того, чтобы жить так, как живут люди, рассчитывающие на длинную жизнь. Положительно не за что ухватиться на свете, единственное, что представляется мне спасительным, – это твое присутствие, и то только при тех условиях, которые вряд ли возможны сейчас, мне надо, чтобы ты была около меня неравнодушной, чтобы ты приняла какое-то участие в моей жизни и даже в моей работе».
Разумеется, сам поэт думал о природе своей тоски. И приходил к выводу, что она – не препятствие, а скорее способ познания жизни, о чём он и пишет матери 9 декабря 1907 года: «Моя тоска не имеет характера беспредметности – я слишком много вижу ясно и трезво и слишком со многим связан в жизни». Очевидно, что если такую тоску поэта и можно считать «болезнью», то уж никак не смертельной… Ну а почему пушкинская «сердечная тоска» превратилась со временем в блоковскую «смертную тоску», - в этом можно увидеть зримый результат цивилизованного «совершенствования» человека… Потому-то Блок и говорил Горькому, всецело доверяющему и слепо верящему в силу человеческого разума, что если б мы могли совершенно перестать думать хоть на десять лет и погасить этот обманчивый болотный огонёк, влекущий нас всё глубже в ночь мира.
Ну а требовать от поэта, человека невероятной чуткости, оптимизма в разрушенной стране, с признаками геноцида народа, значит требовать какого-то нездорового оптимизма. Такой «оптимизм» нездоровей всякой тоски…
Как это ни странно, «истории болезни» Александра Блока как таковой, в привычном понимании, не существует. В девяносто втором томе «Литературного наследства» (М., «Наука», 1987) опубликована пятистраничная «История болезни Блока», в которой говорится об отсутствии «истории болезни» как таковой: «Наблюдавший поэта последние полтора года Александр Григорьевич Пекелис оставил лишь «Краткую заметку о ходе болезни» Блока, вскрытия тела не производилось, в клинике Блок никогда не лечился, т.е. истории болезни в традиционном понимании слова нет». Доктор А.Г. Пекелис составил свою «Краткую заметку о ходе болезни поэта А.А. Блока» 27 августа 1921 года, то есть двадцать дней спустя после смерти. Почему не сразу после смерти и кому понадобилась эта краткая заметка двадцать дней спустя?..
Опубликованная же в девяносто втором томе «Литературного наследства» «История болезни Блока» имеет такой подзаголовок: «Сообщение доктора медицинских наук М.М. Щербы и кандидата медицинских наук Л.А. Батуриной (кафедра пропедевтики внутренних болезней Военно-медицинской ордена Ленина Краснознамённой академии им. С.М. Кирова)». Причём, имя доктора М.М. Щербы дано в траурной рамке. Странность этого, столь ответственного документа состоит в том, что он не датирован. Но упоминание в нём первого и пока единственного, на момент его составления исследования, принадлежащего Я.В. Минцу, опубликованного в 1928 году, позволяет полагать, что составлен он не ранее 1928 года, скорее в 1929 году (Я.В. Минц, «Александр Блок (патографический очерк). – Клинический архив гениальности и одарённости», 1928, т.IV, вып.3).
Странность этой «Истории болезни» состоит и в том, что она носит какой-то уж явно не медицинский характер, хотя в ней и предлагается «врачебный взгляд». Цель её составления, продекларированная в начале, не медицинская: «Отсутствие в биографических сведениях и литературных трудах о Блоке «врачебного взгляда», подробной истории болезни казалось нам всегда большим пробелом. Его мы попытались восполнить. Проведение исследования в таком необычном для блоковедения направлении представляется нам вполне уместным, своевременным и корректным, поскольку муссировавшиеся прежде и существующие до сего времени слухи о причине смерти Блока требуют медицинских комментариев». То есть, составление «Истории болезни» оказалось «своевременным», дабы пресечь муссирование слухов. Тем более, что причиной трагической кончины поэта стали интересоваться и за границей. Именно в 1928 году Р. Роллан допытывался у М. Горького о причине смерти Блока… Ну тот, не имея на руках никакого медицинского документа, отвечает любопытному Р. Роллану, как и подобает пролетарскому писателю – «атрофия воли к жизни»…
Но есть и в самом тексте этой «Истории болезни» составленной семь лет спустя после смерти, такие нелогичности и нестыковки, которые ничем иным не объяснимы, кроме как продекларированной в ней «целью». Так дважды в нём – в начале и в конце, – в качестве главного вывода говорится о том, что смерть поэта была неизбежной и подготовлена всей его жизнью: «Нами прослежен ход развития болезни – медленный, но неумолимый, накопление малых изменений, которые по несчастному стечению обстоятельств привели к завершающей трагедии – такой как будто неожиданной, но подготовленной, однако, всей жизнью поэта… Таким образом, смертельная болезнь Блока явилась заключительным этапом, финалом заболевания, всю жизнь его преследовавшего». Это, примерно, то же самое, что сказать о любом человеке – каждый его шаг на земле есть шаг к могиле…
Но приведённые, здесь же, свидетельства, вовсе не говорят о том, что смерть поэта явилась неизбежным финалом заболевания, «всю жизнь его преследовавшего». Скорее наоборот: «В целом к двадцати годам Блок был здоров», «физической силой и физическим здоровьем наделён он был в избытке», – как писал В.А. Зоргенфрей. Врачи, у которых он лечился, отмечали, что все его недомогания чисто нервные. «Нервный доктор», обследовавший его летом 1911 года, не нашёл ничего страшного, о чём поэт и сообщает матери: «Сердце оказалось в полном порядке». Благотворное влияние на Блока оказывали гимнастика, шведский массаж, борьба, а так же постоянный физический труд в Шахматове. Это дало возможность составителям «Истории болезни» сделать вывод: «Всё это подтверждает преобладание функциональных симптомов, отсутствие органического заболевания сердечно-сосудистой системы у Блока до последних лет жизни. В апреле 1917 г., навестив мать в санатории, он показался знаменитому врачу Юрию Владимировичу Каннабиху, который нашёл только неврастению, назначил бром с валериановыми каплями». Как «отсутствие органического заболевания» соотносится с болезнью, «всю жизнь его преследовавшей»?.. Явное противоречие и несоответствие…
В апреле 1920 года Блок почувствовал лихорадочное недомогание. Доктор А.Г. Пекелис, живший с поэтом в одном доме, осмотрев его, расценил это как «послегрипповый хвост». Авторы «Истории болезни», считали этот диагноз ошибочным, по их мнению «несомненно, обнаруженные симптомы следовало истолковать серьёзнее – имелось достаточно оснований для диагностики воспалительного поражения сердца».
И только весной 1921 г., как писал В.А. Зоргенфрей, «впервые заговорили внятным для окружающих языком о болезни Блока: он жаловался на боль в ногах, одышку, «чувствовал» сердце, поднявшись на второй этаж, садился утомлённый». Однако, несмотря на усилившиеся симптомы, сильное похудание в апреле 1921 года, Блок 1 мая едет в Москву. Примечательно свидетельство К.И. Чуковского, сопровождавшего поэта в этой поездке, который чуть не вскрикнул, нечаянно подняв глаза: «Передо мной сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдалённо не похожий на Блока. Жёсткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другими». Авторы «Истории болезни» из этого делают, по всей видимости, верный вывод: «Такие резкие и быстрые изменения внешности, вне всякого сомнения, говорят о тяжёлой болезни, их нельзя объяснить только утомлением и недостаточным питанием». Авторы приходят к выводу, что все симптомы чётко «указывают на зависимость неврастенических жалоб от обострений хронически текущей инфекции – тонзиллита, этой характерной «петербургской болезни». Тонзиллит – воспаление миндалин (гланд), дающие, помимо изменений со стороны горла, явления общей хронической интоксикации с преимущественным поражением нервной и сердечно-сосудистой системы… Блок погиб от подострого септического эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца), неизлечимого до применения антибиотиков». Таков диагноз согласно данной «Истории болезни», составленной семь лет спустя после смерти поэта, который, по мнению её авторов, должен был пресечь муссировавшиеся слухи о причине смерти Александра Блока.
Но «муссирование» слухов в связи со столь странной смертью великого поэта не прекращается, так как слишком уж многие факты не находят сколько-нибудь убедительного объяснения. Изначально, что, кстати, не прекращается и до сего дня, попытались выставить поэта, эдаким творцом революции, и чуть ли, не главным её виновником. В революциях, мол, всегда творение обманывает замысел. И Марат-де кричал: революция не удалась! Стало быть, и у Блока, она не удалась, и «тоска придавила его душу» (Исаак Штейнберг, «Драма Блока», «Независимая газета», 08.08.96). Сам по себе факт того, что революции всегда не удаются, и творцы их обманываются в своих замыслах – это вообще интересный аспект природы революции вообще. Это к вопросу о том, что у нас революции всё ещё объясняются и оправдываются тем, что якобы в них разрешаются какие-то социальные проблемы – справедливости, равенства, братства… Конечно, это совершенно не так. И я понимаю сколь это непривычно для человека, моего ровесника, которого всю жизнь массированно мордовали «революционными ценностями» вместо народных ценностей и национальных интересов. Но с этой точки зрения у нас не принято толковать революции, так как тогда открывается их истинная извечная природа. Таким же образом вина с их творцов перекладывается на сам народ: подсыпаются в сознание мировоззренческие яды, сеется смута, от чего люди начинают бесноваться, а потом указуют пальцем и говорят: так сам же народ все безобразия и совершал. И – его лучшие представители, как в нашем случае великий поэт. Но это обвинение абсолютно не по адресу. При всём при том, даже если он и впадал в какие-то соблазны.
Таким образом, высокие творческие революционные «замыслы», даже не сбывшиеся – это доблесть творцов революции, а вызванный этими «замыслами» хаос, кровавая человеческая каша – это-де народ такой попался, не поддающийся «совершенствованию». Причина и следствие меняются местами…
Революции совершают совсем другие люди, исповедующие совсем иные «ценности» и другие «идеалы». Революционер – это особый духовно-мировоззренческий и даже нервно-психологический склад человека, приобретаемый им в силу разных причин и обстоятельств, как правило, исключительно внешних. Он бунтует вовсе не потому, что его душа страданиями человеческими уязвлена стала. Это, как правило, спекуляция на народных страданиях. Ну и – оправдание себя, без чего человек жить не может. Он бунтует потому, что иных способов заявить о себе в этом мире не находит. Обычно это происходит от несоответствия завышенных запросов и мнения о себе и реальных возможностей.
Попутно, мне хотелось отметить аспект, мало кем замечаемый, во всяком случае, не получающий чёткого определения. Даже если для революционного действа есть веские социальные причины – гнёт, несправедливость и т.д., человек, вступающий на этот путь, попадает в особое психологическое и даже психическое состояние невменяемости. Его охватывает своеобразная нервная болезнь, неведомая земным врачам. Ведь он отказывается от самого себя, перекрывает пути своего духовного развития, пытаясь с помощью какой-то идеи, как готовой отмычки, разрешить все проблемы бытия человеческого, которые таким способом не разрешаются в принципе. В конечном итоге, как правило «устраивает свою жизнь», обманываясь в своих надеждах: «Революционер вступает в мир и живёт в нём только с верой в его полнейшее и скорейшее разрушение. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире» (М. Бакунин). Эта болезнь столь глубока, что человек может и не преодолеть её во всю свою жизнь, может так и не выйти из неё. И она изживается только в последующих поколениях…
Даже перепуганный Андрей Белый сказал о Блоке, что «он – жертва революции» («Он как бы приговорил себя к смерти…», «Литературная газета», №31 1990). Он-то и запустил в обиход канцелярско-бумажную версию гибели поэта в связи с тем, что его так и не выпустили на лечение в Финляндию: «Горький хлопотал в Москве, но не пустили: пустили Сологуба, а Блоку отказали: лишь после настойчивого письма и разъяснения Луначарского – Блока пустили, но – поздно: он уже не мог ехать: канцелярщина и бумажное производство и тут потрудились: внесли свою лепту в разрушение его жизни: с чисто идиотической тупостью они выпускают явных белогвардейцев, а автора «Двенадцати» держат в плену до …задухи».
И не задался Белый вопросом, откуда и почему взялась эта канцелярская идиотическая тупость. Да и понятно. Он ведь предупреждал поэта в письме от 17 марта 1918 года о грозящей ему опасности и теперь воочию убился и осознал: они его всё-таки «не простили»… Безопасней разразиться бранью в адрес какой-то абстрактной канцелярщины, чем разбираться в том, что же в действительности произошло.
Ну ладно, Белый жил в жестокое время. Но почему эту же версию повторяет В. Радзишевский – «Канцелярское убийство» («Литературная газета» № 34, 1991). Не видит явных нелогичностей в том, как развивались события, закончившиеся смертью поэта? Не мог не видеть, он их аккуратно перечисляет. Но относит их опять-таки на счёт некой абстрактной канцелярщины. Значит, по всей видимости, и сегодня кому-то необходимо, чтобы эта легенда продолжалась…
Кстати, в своих поминальных записях об Александре Блоке Андрей Белый как бы проговариваясь, упоминает каких-то «руководителей атмосферы нашей жизни»: «Если бы знали руководители атмосферы нашей жизни, что смерть Блока есть ужаснейший приговор им». Кто это – бюрократия «как таковая» или же бюрократия «общественная»?
Ключевая фраза публикации В. Радзишевского: «Блок умер своей смертью», странна, так как все излагаемые автором далее факты, кричаще не соответствуют этому утверждению, чего он, вроде бы, и не замечает.
Конечно, и Пушкинская речь Блока «О назначении поэта» (10 февраля 1921) и его стихотворение «Пушкинскому Дому» (11 февраля) содержат в себе ноты завещания. Блок говорит не только о Пушкине, но и о себе. Так соблазнительно из текстов поэта вывести диагноз: «Мы умираем, а искусство остаётся», «Уходя в ночную тьму…». Но не следует этого делать потому, что поэт всегда текущий миг нашей жизни представляет моментом вечности, говорит о быстротечности человеческого бытия, а значит, и о смерти. Столько стихов было у Блока о смерти до этого. К примеру, стихотворение «Похоронят, зароют глубоко…» написано поэтом в 1915 году… А в стихотворении «Всё это было, было, было…», написанном в 1909 году, есть и вовсе, казалось бы, пророческие строки:
Иль просто в час тоски беззвездной,
В каких-то четырёх стенах,
С необходимостью железной
Усну на белых простынях?
Ведь тут уже есть та «тоска беззвездная», то, по свидетельствам современников, нежелание жить, которые выдвигались главными причинами трагической кончины поэта. Но последние слова мы воспринимаем как пророческие лишь потому, что знаем, что случилось потом… Нам важно отметить то, что в первой половине февраля 1921 года поэт при всех недомоганиях был ещё исполнен сил и активно работал. Причина же смерти Блока современникам его действительно была не вполне понятной и даже странной. Это позволило Владиславу Ходасевичу высказать несколько парадоксальное, но психологически, кажется, точное мнение: «Не странно ли: Блок умирал несколько месяцев, на глазах у всех, его лечили врачи, – и никто не называл и не мог назвать его болезни. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он всё-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то «вообще», оттого что был болен весь, оттого, что не мог больше жить. Он умер от смерти». («Некрополь», Париж, 1939).
Совершенно необходимо кратко изложить, как развивались события. Первые угрожающие приступы болезни произошли в мае. Любовь Дмитриевна, жена поэта бросилась за помощью к М. Горькому, который сразу же 29 мая обратился с письмом к А.В. Луначарскому. Горький просил передать это письмо Ленину, но письмо великого пролетарского писателя осталось почему-то незамеченным.
Важно отметить, что в семье Блока сразу же заговорили об отравлении. Во всяком случае, это обсуждалось. По всей видимости, мать поэта Александра Андреевна по симптомам болезни допускала такую возможность. Это видно из письма Блока к матери 4 июня 1921 года. Правда, сам поэт в это поверить не мог. И это вполне естественно в положении больного. Главное состоит в том, что подозрение в отравлении в семье возникло при первых же серьёзных приступах болезни: «Мама, доктор Пекелис знает все мои болезни, ты ошибаешься, точно так же отравления никакого не было и вообще не может быть… Делать я ничего не могу, потому что температура редко нормальная, всё болит, трудно дышать и т.д. В чём дело, неизвестно».
Как видно из этого письма, ни доктор Пекелис, ни сам больной, не могли понять в чём дело. Слишком уж необычными были проявления болезни. Зато блестяще «разгадали» в чём дело, составители «истории болезни» семь лет спустя после смерти поэта, не проводя эксгумации и, по сути, не имея никаких медицинских документов.
Между тем, мольба о помощи Любови Дмитриевны и письмо М. Горького остались почему-то совершенно не расслышанными. Консилиум врачей, созванный 18-июня, подтвердил всю серьёзность болезни. И тогда Л.Д. Блок 21 июня снова обращается за помощью к Горькому. 23 июня Горький лично обращается к Ленину с заключением консилиума врачей. Ленин опять-таки почему-то направляет документы на Лубянку, в ЧК-ОГПУ к Менжинскому, который их притормозил. Узнав об этом, А.В. Луначарский обращается от себя и от имени М. Горького с письмом в ЦК партии, копию посылает Ленину, пытаясь убедить, что единственной возможностью поправить здоровье Блока – это «временный отпуск в Финляндию»: «Просим ЦК повлиять на т. Менжинского в благоприятном для Блока смысле». Письмо Луначарского Ленин направляет Менжинскому с припиской: «Тов. Менжинский! Ваш отзыв? Верните, пожалуйста, с отзывом». Менжинский же предлагает создать условия для лечения Блока в санатории в пределах России, зная, что таких санаториев в то время не было по причине полной разрухи в стране.
Просьба Луначарского и Горького о спасении Блока почему-то рассматривается на заседании Политбюро 12 июля под председательством Ленина. Члены Политбюро соглашаются с Менжинским и выносят решение: Блока не выпускать. Тогда Луначарский 15 июля вновь отправляет в ЦК большое эмоциональное письмо. «Высоко даровитый Блок умрёт недели через две, – писал Луначарский, – и тот факт, что мы уморили талантливейшего поэта России, не будет подлежать никакому сомнению и никакому опровержению». 23 июля, через неделю, Политбюро пересмотрело своё решение, и Блок наконец-то, получил разрешение лечиться за границей.
Но он был уже настолько слаб, что ехать один никуда не мог. Началось оформление документов для сопровождающей его жены, Л.Д. Блок, которые отправлялись в Москву, где и получались паспорта. В Москве анкета Л.Д. Блок почему-то «теряется». Словом, паспорта не понадобились. 7 августа 1921 года Александра Блока не стало.
Надо быть очень уж предвзятым или наивным человеком, чтобы во всей этой истории увидеть лишь бумажное крючкотворство и не различить единого замысла, имеющего целью не выпустить всё-таки Блока за границу. Ведь Сологуба отпустили, а умирающему Блоку отказали… Точнее дотянули до такого положения, когда никакая поездка, никакое лечение уже не понадобились. Трудно не согласиться с Владимиром Солоухиным в том, что «Ленина и Менжинского пугала вовсе не лояльность Блока за границей, а то, что европейские медики поставят правильный диагноз и обнаружат и объявят всему миру, что Блок отравлен. Это единственное реальное объяснение чудовищному решению Политбюро не пускать Блока за границу и вообще всей этой волоките, которую В. Радзишевский назвал канцелярским убийством. Убит Блок был раньше, за несколько месяцев до самого факта смерти, а проволочка понадобилась, чтобы довести начатое до конца и чтобы спрятать концы». («Похоронят, зароют глубоко…». Некоторые соображения в связи с необъяснённой смертью Александра Блока, «Литературная Россия», № 4,1992).
Соображения Владимира Алексеевича Солоухина заслуживают самого серьёзного внимания, так как он вовсе не версии выдвигает, а анализирует доступные факты в их причинно-следственной и психологической связи, кроме того, он называет имя возможного убийцы Александра Блока. А такими «соображениями» так просто, такие глубокие люди, каким был писатель Владимир Солоухин, не бросаются.
Главным, пожалуй, фактом, свидетельствующим о том, что Блок умер не своей смертью, является чудовищное уничтожение по сути всех талантливых писателей в России, устроенное победителями. Особенно писателей народных и из народа. Как понятно, это вытекало из их убеждения о создании «нового», революционного искусства и «новой» социалистической литературы. И вообще – «новой» России. Всё, что имело духовную и культурную преемственность, нещадно подавлялось, рассматривалось как нечто отжившее, как помеха на пути нового строительства. Список уничтоженных поэтов столь страшен, что считать его какой-то издержкой революционного времени никак невозможно, но только как результатом целенаправленной политики – Н. Гумилёв, А. Ганин, С. Есенин, П. Орешин, С. Клычков, П. Васильев, Б. Корнилов, О. Мандельштам, В. Наседкин, И. Поддубный… И если многим из них клеились ярлыки «фашистов», совсем иначе обстояло дело с Блоком, поэтом известным, «принявшим» революцию, в числе первых деятелей культуры, пришедшем на службу новой власти. Тут нужны были особые, тонкие подходы. И не столь важно, на каком уровне это делалось – на личностном, из комплекса сальеризма или общественном. Главное, была создана такая идеологическая атмосфера нетерпимости к истинной, традиционной культуре, что, по сути, развязывала руки любому авантюристу, тем более, находящемуся у власти. Такого рода дела, как правило, свершались «по убеждению»…
В августе 1920 года интерес к Блоку вдруг проявляет Лариса Рейснер, неистовая революционерка, партийная функционерка, неудавшаяся, ещё не сформировавшаяся писательница, жена Ф. Раскольникова, командовавшего Балтийским флотом. Непоседливая Л. Рейснер как раз вернулась с фронта, с Волжско-Канской флотилии и у неё случилась «передышка» перед отправлением с дипломатической миссией в Афганистан в апреле 1921 года. Она окунается в культурную жизнь Петрограда. Известно, что Александр Блок представлял её вместе с Сергеем Городецким на вечере Петроградского союза поэтов, ничего не сказав собственно о творчестве. Ведь судя по его записям, она была для него скорее просто женой Раскольникова, чем писательницей.
Ларису Рейснер всё ещё вплоть до сегодняшнего дня настойчиво представляют исполненной революционной романтики, бесконечно преданной делу революции, женщиной русской революции, большевистской Мадонной, Валькирией революции. Вот вышла о ней новая книга Галины Пржиборовской «Лариса Рейснер» («Жизнь замечательных людей», М., «Молодая гвардия», 2008). Казалось бы, что уж в наше время, после разоблачений всех революционных преступлений, после свершения новой «демократической» революции уже следовало бы поспокойнее относиться к «романтике» революции, революционным ценностям, трезво понимая, что «романтика» эта была таковой только для вершителей революции, а для народа это было разорение, кровь, грязь, нищета, из которых пришлось выбираться ценой неимоверных усилий десятилетиями. Казалось бы, уже осознано, что в основе этой революционной «романтики» лежит то, о чём писал с понятной злостью, но верно по существу Иван Бунин: «Всё это повторяется потому, прежде всего, что одна из самых отличительных черт революции – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна». Да и для самих вершителей революции её «романтика» заканчивалась тогда, когда приходило время расчёта за всё сделанное. А такое время в пробуждённом, неуправляемом революционном хаосе обязательно приходило. Ан нет «революционные идеалы» всё ещё поддерживаются и вновь навязываются общественному сознанию, как единственно возможные… После всего пережитого в России и переживаемого теперь нами это и вовсе какая-то безотчётная безответственность. Если же сознательная, то тогда – это провокационная, идеологическая агрессия…
Лариса Рейснер была революционеркой потомственной, вышколенная в этом духе отцом Михаилом Андреевичем Рейснер, социологом и правоведом, примкнувшем к РСДРП и познакомившемся с Лениным ещё в 1905 году. Дух бунта, скандала, завышенных самооценок, как видно по всему, всегда витал в этой революционной семье и передался дочери.
Конечно, М.А. Рейснер «прошёл сложный путь духовных исканий и борьбы… ему открывалась перспектива благополучной учёной карьеры. Но столкновения с российской действительностью конца ХIХ века, честность и гражданское мужество учёного заставили его избрать другой путь» (Э. Соловей, «Лариса Рейснер», М., «Советский писатель, 1985). Конечно, его душит консервативная, реакционная профессура, а ещё более – «российская действительность», и он уходит в революцию. В переводе с идеологического языка на человеческий, это значит, что благополучной учёной карьеры он сделать не смог, а потому сделал карьеру путём наипростейшим – революционным. А все эти столкновения с «консервативной» профессурой, выдаваемые за некое благородство и гражданское мужество, – есть внесение в учёный коллектив атмосферы скандала, как правило, из-за завышенных самооценок. Такова природа революционера, которую нам давно бы уже пора перестать романтизировать…
Примечательно, что диссертацию он готовил под руководством Александра Львовича Блока, отца поэта, учёного, конечно, «консервативного» толка, с которым он потом разошёлся, как разошёлся и со всеми учёными… Кто бы мог знать, что столкнутся не только М.А. Рейснер с А.Л. Блоком, но их дети – Лариса Рейснер и Александр Блок. Да ещё так столкнутся…
Впрочем, и сам М.А. Рейснер полемизировал с Александром Блоком, причём, по самым важным для поэта вопросам. 13 ноября 1908 А.Блок прочитал доклад «Россия и интеллигенция» в религиозно-философском обществе, а 12 декабря прочитал его в Литературном обществе. Как видно по всему, поэта интересовала реакция на его мысли. 22 декабря по итогам обсуждения доклада он составляет в записной книжке довольно пространный отчёт «Резиме некоторых религиозно-философских и литературных прений (по поводу меня)».
Блок отмечает свои главные мысли о соотношении народа и интеллигенции «в защиту не свою, а своей темы»: «Мне ясно одно: п р о п а с т ь, недоступная черта между интеллигенцией и народом – ЕСТЬ… вы не признаетесь в этом только потому, что это слишком страшно. Если есть эта черта между народом и (все растущей) частью интеллигенции – значит – многие осуждены на гибель. И черта есть!»
Можно лишь поразиться в этой записи прозорливости Александра Блока. Но нам важно отметить, что среди его оппонентов был М.А. Рейснер, упрекавший поэта, конечно же, в «реакционности». Другой оппонент – в ненависти к Белинскому: «Я не принимаю только двух упрёков: в «кощунственном реакционерстве» (Рейснер) и в ненависти к Белинскому» (Неведомский). (А. Блок).
Собственно говоря, сам факт такого, догматического обсуждения доклада поэта уже подтверждал его правоту о расколотости общества, и о том, что пропасть между народом и интеллигенцией есть. А его пророчество о том, что при таком положении «многие осуждены на гибель» просто поразительно…
Отношение к Блоку у Л. Рейснер было вполне революционным. Это видно из издаваемого ею вместе с отцом, никчемному с точки зрения литературной, журнальчике «Рудин». Там её бурный темперамент общественного борца сказался, к примеру, в статье «Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому». Признавая талант Блока, она видела его завершившимся, то есть, по сути отжившим. В «беспорядочном бунте футуризма», её жажде освобождения был ближе, конечно, Маяковский. Это движение через Блока к Маяковскому очень ведь характерное. По сути, оно означает отход от литературы в политику.
И вот почему-то вдруг Л. Рейснер заинтересовалась Блоком, который был ей ни по творчеству, ни по человеческой позиции не то что не близким, но далёким. Она несколько раз встречается с Блоком в 1920 году и в начале 1921 года, до отъезда в Афганистан. Александр Блок был несколько раз у Раскольниковых дома, обедал и ужинал.
Как видно по всему, Л. Рейснер встречается с Блоком не по своей личной инициативе, а по заданию, имевшему цель повлиять на Блока, сделать его «своим» и даже с более конкретным намерением – склонить его к вступлению в партию. Как пишет Э. Соловей в упомянутой книге, «к Блоку Лариса Рейснер проявляет в эту пору огромный интерес и сочувствие. К тому времени относится их дружеская близость, совместные верховые прогулки на острова, долгие беседы, которые Л. Никулин полушутя определил как «содействие перестройке». То есть, как понятно, «перестройке» Блока. Коль такое мнение было в революционной среде, значит неистовая революционерка Л. Рейснер, бесконечно преданная партии и готовая, по её выражению, умереть за неё, действительно с фронта Гражданской войны была переброшена на фронт литературный.
В своих «Воспоминаниях об Александре Блоке» тётка поэта М.А. Бекетова отмечает это неожиданное появление Л. Рейснер в их жизни: «Из Москвы приехала Лариса Рейснер, жена известного Раскольникова. Она явилась со специальной целью завербовать Ал.Ал. в члены партии коммунистов и, что называется, его обхаживала. Устраивались прогулки верхом, катанье на автомобиле, интересные вечера с угощеньем коньяком и т.д. Ал.Ал. охотно ездил верхом и вообще не без удовольствия проводил время с Ларисой Рейснер, так как она молодая, красивая и интересная женщина, но в партию завербовать ей его всё-таки не удалось, и он остался тем, чем был до знакомства с ней».
Но в таком виде воспоминания Марии Андреевны Бекетовой сохранились лишь в берлинском издании её книги 1922 года. В её воспоминаниях об этих же событиях в книге, вышедшей в наше время, мы читаем нечто совсем другое: «В августе состоялось новое, довольно интересное, но мимолётное знакомство. Из Москвы приехала Лариса Рейснер, известная партийная работница и писательница. Она познакомилась с Блоками. Устраивались прогулки верхом, катанье на автомобиле, интересные встречи с угощением. Эти развлечения были, кстати, среди будничного фона тогдашней жизни» (М., «Правда», 1990).
Как видим, цепь этого «мимолётного» знакомства и общения в новом издании опущена – никакой агитации в партию коммунистов уже нет. Кто и зачем вносил столь существенную правку в воспоминания тётки поэта?.. Марии Андреевны Бекетовой не стало в 1938 году…
Но прежде зададимся вопросом: мог ли вообще Александр Блок вступить в партию коммунистов? Конечно, не мог. Это было заранее понятно людям, предпринявшим эту сомнительную акцию. Не мог вступить по определению, по самой организации своей творческой натуры, тяготившийся всякой службой, когда без неё ради выживания нельзя было обойтись. Об этом есть и прямые свидетельства его самого. Ещё 30 декабря 1905 года он пишет отцу: «Никогда не стану ни революционером, ни «строителем жизни», и не потому, чтобы не видел в том или другом смысла, а просто по природе, качеству и теме душевных переживаний».
А в дневнике 13 июля 1917 года отмечает: «Я никогда не возьму в руки власть и никогда не пойду в партию, никогда не сделаю выбора, мне нечем гордиться, я ничего не понимаю». Конечно, «не понимание» поэта не следует воспринимать буквально, ибо оно проистекало не от действительного непонимания происходящего, а от высокой требовательности к себе.
Но коль заранее было ведомо, что склонить поэта к вступлению в партию не удаётся, значит, Л. Рейснер имела какое-то совсем иное задание, а вступление в партию, было, всего лишь, предлогом. Не потому ли упоминание об этом и изымается из воспоминаний М.А. Бекетовой…
Надо иметь в виду, что Л. Рейснер способна была выполнить любое задание. И такие задания она уже выполняла. Владимир Солоухин приводил один из таких эпизодов из воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам: «Понадобилось арестовать каких-то военных, кажется, адмиралов, военспецев, как их тогда называли. Раскольниковы вызвались помочь в этом деле: они пригласили адмиралов к себе; те явились откуда-то с фронта или из другого города. Прекрасная хозяйка угощала и занимала гостей, и чекисты их накрыли за завтраком без единого выстрела. Операция эта действительно была опасной, но она прошла гладко благодаря ловкости Ларисы, заманившей людей в западню… Лариса была способна на многое…» («Воспоминания», «ИМКА-пресс», 1982).
Дело вовсе не в подлости и коварстве, а в особом типе революционного человека, непременно со сдвинутым разумом и подпорченной душой, на что накладывались ещё непомерные амбиции и эгоизм. Вполне возможно, Л. Рейснер явилась убирать Блока и не по чьему-то чётко сформулированному заданию, а из собственной неудовлетворённости, комплекса сальеризма, из-за несбывшихся надежд поэтессы и писательницы…
В воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам есть поразительное утверждение, по существу страшное и безумное: «Все, кого Лариса знала, когда была профессорской дочкой, издававшей нелепый журнальчик и ходившей в гости к поэтам с первыми пробами нелепых стихов, и потом, когда пыталась стать «женщиной русской революции», погибали, не прожив своей жизни». В условиях революционного беззакония это было возможно. Даже понятно с точки зрения психики: она убирала свидетелей своей несостоятельности… Ну нельзя же в самом деле, её торопливые публицистические записи вполне серьёзно выдавать за литературу. Ну разве что это – «новая», «социалистическая» литература, тогда другое дело, но не литература как таковая. И не осознавать этого она не могла. Каких только психологических гримас, причуд и аномалий не делает с людьми революционный хаос, в какие только бездны в нём они не падают. Причём, все без исключения – и вершители революции и их жертвы. Но это же просто чудовищно. Какие же «революционные» идеалы можно высекать всё ещё из этого очевидного несчастья…
Революционерами же Раскольниковы были настоящими, так сказать, первой пробы. Об их образе жизни есть в воспоминаниях той же Н.Я. Мандельштам: «Раскольников с Ларисой жили в голодной Москве по-настоящему роскошно – особняк, слуги, великолепно сервированный стол… Своему образу жизни Лариса с мужем нашли соответствующее оправдание: мы строим новое государство, мы нужны, наша деятельность – созидательная, а потому было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достаётся людям, стоящим у власти…» Куда и подевались идеалы о равенстве и справедливости. Может быть, видя таких новых, «красных» бар Блок и отмечает, что как же простым людям иначе воспринимать революцию, кроме как «грабёж и картёж»… Когда начнётся отход от революционных идеалов, то есть от революционного хаоса, хоть к какой-то нормализации жизни, Ф. Раскольников выступит с письмом против Сталина. Надо полагать в защиту чистоты этих «идеалов», а по сути, в защиту своего образа жизни «победителей»…
Итак, «мимолётное» знакомство Ларисы Рейснер с Александром Блоком состоялось. В апреле 1921 года она отправляется на новый фронт своей кипучей деятельности и борьбы, на этот раз – дипломатический, в Афганистан. К апрелю этого же года относятся первые угрожающие симптомы непонятной болезни Александра Блока, закончившиеся его неожиданной смертью.
Всё произошло вполне в согласии с её убеждениями: «Часто было больно смотреть, не мигая, в раскалённую топку, где в пламени ворочались побеждённые классы, победитель душил побеждённого» (Л. Рейснер). Только мне в эту боль не верится, и не верится потому, что в таких словах чувствуется уверенность, что топка эта предназначена для кого угодно, для «побеждённых классов», но только не для неё. Какая всё-таки наивность…
Как именно, где, при каких обстоятельствах поэту был подсыпан яд, какой именно яд – установить это, уже, пожалуй, невозможно. Да и не криминальная сторона дела нас интересует в первую очередь, а та мотивация, в результате которой, трагедия стала возможной.
Но, как писал Владимир Солоухин, «есть у мафии такое понятие – зачистка. После убийства многие месяцы, а то и годы идёт планомерное уничтожение всех, кто хоть что-нибудь знает, не говоря уж об участниках, прямых или косвенных. Как-то мы пропускаем мимо сознания, что убийство Кеннеди, например, повлекло за собой исчезновение при разных обстоятельствах более 120 человек»…
Видимо, настигла такая «зачистка» и Ларису Рейснер. Иначе, трудно объяснить её столь раннюю смерть, имеющую все возможности для лечения, в отличие от Блока. Она скончалась от брюшного тифа 7 февраля 1926 года, не дожив до тридцати одного года… Н.Я. Мандельштам заметила: «Противоречивая, необузданная она заплатила ранней смертью за все свои грехи».
Но ранняя смерть Л. Рейснер была отмечена ещё одним загадочным и трагическим обстоятельством. В Кремлёвской больнице, где она умирала, при ней дежурившая мать Екатерина Александровна сразу же покончила с собой после смерти дочери. Действительно – «часто ли родители кончали самоубийством сразу же после смерти детей?..» (В. Солоухин). Факт настолько необычный и редкий, что не иметь под собой какой-то страшной основы не может. Вполне возможно, что почувствовав неизбежность смерти, Лариса исповедовалась перед матерью, рассказав ей кое-что из своей жизни. И таким образом, невольно напоследок, кроме других своих жертв, прихватила с собой в могилу и мать. Вряд ли, конечно, мать покончила с собой, скорее поплатилась за то, что узнала… От таких фактов до сих пор веет холодком безумия. Объяснимого и понятного, но от этого не становящегося менее страшным. Это, видимо и есть, «потрясающее, безобразное и ни с чем несравнимое в своей красоте лицо революции» (Л. Рейснер). Но это, конечно, не та красота, которая спасает мир…
Было бы непростительным упрощением представлять трагедию гибели поэта только как криминальную. Есть своя несомненная правда в том, о чём говорил Андрей Белый Н.А. Павлович уже после смерти Блока: «Такие как А.А. находятся под особым преследованием сил зла; он это – знал; мы даже говорили об этом. С 1909 года я знал сознательно, что он и некоторые числятся в проскр(ипционном) списке представителей темных окк(ультных) обществ; и что его будут стараться устранить, губя и изнутри, и извне…» («К материалам о Блоке, «Литературное наследство», том девяносто второй, книга третья, М., «Наука», 1982).
Читай, племя младое и незнакомое, новую книгу «Лариса Рейснер», вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей» в издательстве «Молодая гвардия», так сказать новинку «книжного рынка». Учись жить, учись делать жизнь с людей замечательных.
Остаётся и по сей день таинственной загадочная история перенесения праха Александра Блока со Смоленского кладбища. Через двадцать три года после похорон вдруг предпринято перезахоронение поэта… Официальной версией было то, что Смоленское кладбище якобы собираются закрывать и ликвидировать. Но оно существует и по сей день… Кощунственность этого действа состоит не только в том, что прах поэта и его родственников потревожили, но и в том, что теперь он находится, в специально «освобождённом» для этого семейном склепе баронов Швахенгейм…
Не может не поражать и то, что неужели в измученном блокадой Ленинграде, в 1944 году, не было более важных задач по восстановлению и налаживанию разрушенной войной жизни, кроме, как таскать с места на место кости великого поэта? Неужто, эта задача была в то время первостепенной? Видимо, кто-то уж очень крепко помнил о тайне гибели Александра Блока, если даже в такое, неподходящее время предпринял его перезахоронение… Совершенно очевидно, что этот факт может свидетельствовать только об одном: кто-то уж очень боялся эксгумации, анализа и установления истинной причины смерти поэта.
Перезахоронение же совершалось, как свидетельствовали очевидцы, небрежно, кости перевозились в каком-то ящике, где было возможно не только их смешение, но и подмена. Вполне возможно, что только ради этого и было предпринято это странное перезахоронение…
И если, как писал Владимир Солоухин, подмена костей была возможной, тогда строки Александра Блока: «Когда под забором, в крапиве Несчастные кости сгниют», – оборачиваются жутким пророческим и вместе с тем страшным смыслом. Останки великого поэта России, по всей видимости, остались и остаются в буквальном смысле слова где-то – «под забором, в крапиве»…
Литературно-критическая повесть из книги: Пётр Ткаченко. «Трагические судьбы русских писателей». М. Лермонтов, А. Блок, А. Фадеев, М. Шолохов, М. Цветаева, Н. Рубцов, В. Белов, Ю. Кузнецов. М., ООО «Издательский дом «Звонница-МГ». (Серия «ХХ век. Лики. Лица. Личины.»).