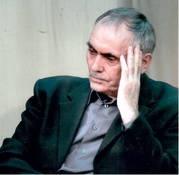Где-то я уже вспоминал о чудесных старинных вещах, что хранились у нас на вышке — от прялки, парового утюга до бронзовых подсвечников. Но ещё больше чудес открылось мне однажды на чердаке дома соседского...
Я запамятовал фамилию тех давних соседей, помню только, что хозяйку звали тётей Линой, а хозяина – Алексеем Дмитриевичем. По нашим деревенским понятиям, это была интеллигентная, культурная семья. Алексей Дмитриевич работал счетоводом в сельпо и уже потому воспринимался недосягаемо образованным человеком, а тётя Лина хоть и была обыкновенной малограмотной крестьянкой, однако и на неё как бы падал отсвет учёности и интеллигентности её мужа, с которым она ходила по деревне не иначе, как под ручку. Тётя Лина работала только на чистых работах – в яслях, на «молоканке», в брынзоварне – и говорила, нам казалось, как-то по-особенному ладно, употребляя «культурные» слова «почему», «одежда», «животное», и то и дело жеманно восклицала: «Какая разница?»
Прожили они у нас недолго. Не по-крестьянски лёгкие на подъём, в один прекрасный день собрались и уехали куда-то. А дом на горке ещё многие годы стоял заколоченным, необитаемым, пока городские покупатели не взяли его на слом.
Так вот в то самое время, когда соседский дом пустовал, я однажды решился на неблаговидный поступок, который без обиняков называется воровством. Что побудило меня к нему? Логика этого предприятия была несложной: коли на нашем чердаке так таинствен мир и на нём водится столько замечательных вещей, то на чужом, незнакомом, должно быть, тем более! Любопытство побороло страх и угрызения совести.
Через огороды, хоронясь в лебеде и лопухах, заглушивших невысокие прясла, я пробрался в соседский двор, нырнул под сени, пристроенные к дому, и с трудом, стоя на четвереньках, приподнял спиною одну из половых плашек. Она подалась необыкновенно легко, что меня даже несколько разочаровало. Мне этот будущий взлом представлялся гораздо более трудным и рискованным. Запрокинув плашку, я выпрямился и оказался в сумрачных сенях, как будто просто вылез из подполья. На чердак вела крутая лестница. С бьющимся сердцем я взобрался по ней и, когда перешагнул через верхний венец сруба, чуть не вскрикнул от восхищения. В отличие от нашего, этот чердак был светел из-за обилия щелей в крыше и коротенького козырька над слуховым окном, в которое широким потоком вливался полуденный солнечный свет. Конечно, это напрочь лишало чердак всякой таинственности, зато какие богатства, какие сказочные сокровища увидел я здесь!
Первое, что бросилось в глаза, были бочонки. Три бочонка. Чёрный и толстый, ведер на десять, схваченный деревянными обручами, коричневый, с пудовку, и ещё жёлтенький, почти игрушечный, с миниатюрным медным краником. Они стояли пирамидой друг на дружке, и когда я прошёлся по ним кулаком сверху вниз, нехотя отозвались сдержанным гулом. Рядом с ними лежали в беспорядке книги. Многие из них были без корочек, с разлохмаченными углами, зато у нескольких, толщиной в ладонь, в две и даже в три ладони, корки походили на доски, обтянутые кожей (а это и были доски, обтянутые кожей), и скреплялись одна с другою бронзовыми крючьями. Я расстегнул верхнюю книгу, стёр рукавом пыль, отвернул корку, словно ставню, и увидел жирный, узкий, похожий на стихи текст на плотной, в жёлтых разводах бумаге. Голова красной буквы «В», открывавшей первую строку, была в затейливых кудряшках. «В начале сотворил Бог небо и землю», – прочитал я, понимая, что имею дело с «божественной» книгой.
Однако моё внимание тотчас отвлекли корзины. Их была целая груда. Плоскодонные и округло-выпуклые, глубокие и мелкие, одно– и двухручные, из неошкуренных прутьев ивы и раздвоенных корневищ сосны, бельевые, грибные, ягодные… Видимо, не год и не два копились они на этом чердаке. Должно быть, не одно поколение прачек, грибников и ягодников сменилось на земле, прежде чем собралась под крышей старого дома столь живописная коллекция крестьянских корзин. Дальше шли вперемешку вороха пёстрого тряпья, старых шуб, серых от пыли, чугуны, туески, колесо самопрялки, резная спинка деревянной кровати, веники, лиственные и полынные, ржавая буржуйка, опорки сапог, башмаки всех цветов и размеров, четверти, бутыли и бутылки зелёноватого стекла, пузатый фонарь, заклеенный бумажными лентами…О, если бы во всём этом не спеша разобраться! Сколько бы, наверное, встретилось ещё удивительных штуковин...
Однако надо было спешить назад. Меня могли заметить. Кому-то наверняка было наказано следить за домом, временно оказавшимся беспризорным. И уже возвращаясь к лестнице, я вытянул тёмную рамку, подоткнутую за стропилину, желая узнать, что за картина вправлена в неё, и когда повернул лицевой стороной к солнцу, на меня в упор глянули голубые, как небо, глаза знакомого кудрявого человека. Пушкин!
Надобно сказать, что в те далёкие дни я уже был подвержен гипнозу, невыразимому колдовству ритмической речи. Я не знаю, когда началось это. Некоторые мелодичные и «складные» строки, мне кажется, я знал всегда, родился вместе с ними: «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качуся в санках по горе крутой…» Иные пришли ко мне от сестры-школьницы Вали. Она частенько уединялась в горнице, садилась за стол, прикрывала ладонями страницу «Родной речи» и, раскачиваясь в такт ритму стиха, многократно повторяла: «Что ты ржёшь, мой конь ретивый? Что ты шею опустил?» Или: «Погиб поэт! – невольник чести – пал, оклеветанный молвой…» Или: «Человек сказал Днепру: я стеной тебя запру!»
Позднее я сделал для себя открытие, узнав, что у всех этих напевных, колыхающихся и как бы светящихся слов есть свои хозяева, «авторы». Их зовут поэтами. Были на свете такие совершенно необыкновенные люди – поэты: Пушкин, Лермонтов, Некрасов… «Однажды в студёную зимнюю пору я из лесу вышел…» Жили они когда-то, когда-то… Это было понятно. Но потом сестра сказала, что и теперь есть поэты, живые люди, такие, как все. Это было непонятно. Поэты – и вдруг живые! Как же так? Хотя вот, пожалуйста, в книжке их портреты. Видишь – дядька в очках? Поэт. А под ним печатный столбец – его стихи: «Земля моя, родимая, святая! Любовь моя, Отчизна золотая…» Что же, выходит, этакое словесное колдовство, как стихи, подручно обыкновенным живым людям, даже если на их головах нет не только смолистых кудрей (что Пушкин был почти русоволос, я узнал много позднее), но и вообще никакой растительности, а глаза у них прикрыты стёклами очков, как, например, у моей матери, когда она садится за швейную машинку? Значит, когда я вырасту, то и мне…
Ну, а пока я был увлечён другим: перерисовывал из книг портреты всех поэтов – от Пушкина до Твардовского. Самым похожим выходил, конечно, Пушкин. Эти кудри, эти бакенбарды, эти большие «поэтические» глаза, эти нервные пальцы с узкими и длинными ногтями…
Один наиболее удачный портрет Пушкина, нарисованный на развороте тетради, я даже приткнул старым пером к стене над столом сестры. Он был выполнен простым карандашом и затем подкрашен дешёвыми акварельными красками, которые мы звали глиняными. Только не сумела сестра оценить моего вдохновения и надругалась над моим шедевром, подрисовав поэту нелепые усы. Портрет пришлось выбросить.
В глубине души я, конечно, понимал несовершенство своей кисти и мечтал о настоящем портрете Пушкина – примерно таком, какой висел в сельской библиотеке, куда я ходил не однажды с сестрой.
И вот теперь судьба сама любезно подносила мне подарок.
Признаться, у меня были серьёзные опасения насчет того, как встретят меня с таким подарком дома, где не поощрялись никакие сомнительные приобретения. Я уже отчётливо слышал интонацию, с которой мать или сестра непременно спросят: «Откуда у тебя это?» Что я могу ответить? Надо придумать историю поправдоподобней. Скажем, такую: забрёл-де в пустую соседскую ограду, гляжу – в пригоне стоит портрет у заплотца. Видать, кем-то выброшенный… Или даже проще: мол, приятель Гришка Филимонов дал в обмен на горсть ранеток, наших «звёздочек». Но второй вариант, пожалуй, хуже. Вводится постороннее лицо, могут проверить через него. Да и откуда у Гришки вдруг портрет Пушкина? Лучше остановиться на первой «легенде». Она, может, менее правдоподобна, но тем охотнее в неё поверят: люди так легко верят во всякие небылицы. Ведь верила же поголовно вся наша деревня в мистический рассказ о том, что будто накануне войны встретила одного шофёра под Гладким Мысом (самое невероятное у нас всегда случалось под Гладким Мысом) белокурая женщина неземной красоты, показала в одной руке тучный колос, в другой - кровь и тотчас исчезла, как сквозь землю провалилась. А что это знамение означало, скоро все увидели сами: сперва удался неслыханный в наших местах урожай, позволивший колхозникам получить на трудодень чуть не по пуду хлеба, а потом грянула кровопролитная война.
Однако даже в нашем селе, как оказалось, не всем чудесам верят. Когда я принёс портрет Пушкина домой и прибил его в горнице над своей кроватью, мать, прежде чем оценить эстетическую сторону этого дела, строго спросила:
– Где взял?
Я, не моргнув, выложил первую версию.
Мать посмотрела внимательно на меня, потом на тёмную рамку, за которой Пушкин сидел как бы в сумерках – ярко голубели только его глаза, молча повернулась и ушла на кухню. А уж оттуда сказала сурово:
– Не смей лазить в этот дом! Лина приедет – она тебе надерёт уши.
Портрет тот долго потом висел над моей кроватью. И каждый день, отходя ко сну, я любовался, выглядывая из-под одеяла, голубыми глазами поэта, его вдохновенными из кольца в кольцо кудрями, по-цыгански чёрными, его выразительно сомкнутыми негритянскими губами – «устами», на которых – «печать», всем его полубожественным обликом и безотчётно мечтал, что вырасту и тоже буду, как Пушкин, писать звонкие стихи. Пусть в той тетрадке, что лежит под подушкой, пока ещё корявые, нескладные и вялые строчки, вроде этих: «Посмотри на небосвод: ярко светит Медведица, там горит, блестит зарница, Млечный путь белеет вот», но – погодите! – придёт время…
А время, оказалось, не приходит. Время просто проходит…
И остаётся в утешение разве лишь самоирония...
* * *
Боже, как многообразно
Было творчество моё!
Я писал о самом разном,
Отражая бытиё.
И о шумном стольном граде,
И о сельских чудесах,
О мальчишке, что в ограде
Запрягал в салазки пса.
О дворцах и о лачугах,
О крестьянах и купцах,
О друзьях и о подругах –
Переменчивых сердцах.
О пастушке на опушке,
О морозном блеске дня…
Но о всём об этом Пушкин
Написал складней меня.