
Окончание
Есенин: Америка, «она — страна негодяев»
Сознание Есенина разорвано в клочья, которые не собрать воедино, ибо во всём у него противоречия. Виной тому вино, срифмовал бы поэт и прибавил, да к тому же дурное окружение, — чуждые люди лезут в его душу, копошатся в ней, как в своей. Но и время было такое: Россия на дыбах, и всё в ней поставлено с ног на голову, и душу уберечь, что духовный подвиг свершить.
Словно тройка коней оголтелых,
Прокатилась во всю страну.
Напылили кругом, накопытили,
И пропали под дьявольский свист.
Оголотелое время сбило поэта с ног. Противоречивым становится даже само отношение Есенина к русской деревне. Его уже раздражает она, староукладная, о чем он и пишет, вспоминая путешествие в Европу и Америку:
«Вспомнил про «дым отечества», про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь», как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию».
Нет, разлюбить ее и убогую Есенин уже не сможет; и до самого последнего часа будет печалиться и плакать по избяной, ржаной и конской, сермяжной Руси, и трогательно до слёз вспоминать мокрогубого телёнка, лежащего в углу на жёлтой соломе, потом шатко расхаживающего по избе, как будет вспоминать и «смешного дуралея» жеребёнка, бегущего за паровозом, пытаясь обогнать стальную машину.
И будет он еще воспевать деревню, исконно-русскую, конно-гужевую; и будет в нём и страх за неё, тихую и мирную, перед жестоким и холодным, стальным напором грядущей технической цивилизации. Лев Николаевич Толстой, крестьянствующий, помнится, как увидел «чугунку» (железную дорогу), так в страхе и воскликнул, что это начало конца России, да и всего человечества. Толстой, как к Есенин позже, как бы предвидел, что техническая цивилизация принесёт много горя всему живому на земле и душе человеческой: искусственные воздух, вода, одежда, еда, — искусственные люди, искусственные отношения, — опять кругом всё тот же демонский искус, и ничего здорового, природного и натурального. А за весь этот искус, — омертвелая душа и короткий и маятный век.
Но Есенин понимает и неизбежность технического прогресса, как и чует крестьянской душой, что не сможет он, этот прогресс, жить в согласии с природой и душой человека, — он их погубит. Моторную цивилизацию, — превращающую человека в рабское колесико адской машины, в бездушного робота, зарабатывающего деньги, жрущего, пьющего, тонущего в смраде пороков, — такую цивилизацию Есенин увидел в Соединенных Штатах Америки. «Железный Миргород» — так он назвал Штаты в своей статье.
На чудовищно огромном пароходе «Париж», — где «корабельный ресторан (...) площадью немного побольше нашего Большого театра», — в его железной туше Есенин с танцовщицей Дункан приплывает в Америку...
«Через час глазам моим предстал Нью-Йорк.
Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке! Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами?!»
Есенин размышляет: а процветает ли в этой «железной и гранитной» империи хвалёная свобода?.. — о ней американцы с пеной у рта вопят на весь мир, который подмяли под своё жирное пузо. Вот Есенинское мнение после нью-йоркских впечатлений:
«Утром нас отправили на Элис-Аленд. Садясь на маленький пароход в сопровождении полицейских и журналистов, мы взглянули на статую свободы и прыснули со смеху. «Бедная, старая девушка! Ты поставлена здесь ради курьеза!» — сказал я. Журналисты стали спрашивать нас, чему мы так громко смеемся. Спутник мой перевел им, и они тоже засмеялись».
Словом, торчит идол «свободы» ради, горького смеха, а самой свободы и в помине нет; и если типичный американец и свободен, то... лишь от совести и чести. И тут невольно вспоминается смешное и грешное, как наш будущий президент Ельцин, возможно, во хмелю, трижды облетел статую свободы в Америке и стал втрое свободнее. От чего душа его стала свободнее, нетрудно догадаться, если глянуть на преданную, проданную и разорённую Россию.
* * *
В Нью-Йоркской гостинице — «шик, блеск, тру-ля-ля» — сказителя из рязанской деревни встречает еврейский поэт Давид Бурлюк, некогда русскоязычный российский модернист и авангардист, некогда и убежавший из мятежной России. (Растопили кровавую баню в России, и — будто крысы с тонущего корабля, а русские отдувайся...)
Давид Бурлюк приходит к Есенину и Дункан вместе с Морисом Осиповичем Мендельсоном, критиком и литературоведом. (Господи, сколько их, иноверных, презирающих Россию, липло к Есенину, — всех этих дивидов бурлюков, мендельсонов, шнейдеров, райхов, лившицей, мейерхольдов, безыменских, лебединских, повицких, эрлихов, шершеневичей, берзиней; они выклевали душу рязанского поэта, выпили его очи. Хотя, Есенин не всегда был в этом деле овечкою невинной: принимая их в свою поэтическую судьбу и душу, думал перехитрить «давидов» своим мужицким умом; думал, они сотворят ему славу, но жестоко просчитался. Впрочем, опять же, иных он, похоже, искренно любил, а иногда надевал ласковую маску, натужно изображая широту взглядов и пугаясь юдофобии в себе, пряча её. А потом, с «давидами» исправно вершились практические дела, с ними же было весело кутить и под их одобрительный гул богохульствовать и хулиганить.)
И вот Давид Бурлюк и Морис Мендельсон приходят в гостиничный номер, где и поселилась странная и трагически несовместимая чета Есенины-Дунканы. Мендельсон так описывает примечательную сцену:
«Разговор с Есениным, как и следовало ожидать, начал Бурлюк. И сразу беседа эта стала какой-то вымученной и явно нерадостной для обоих участников. В речи Давида Давидовича появились заискивающие нотки. И сидел он очень напряженно, на самом кончике стула.(...) Неужели Есенин увидел в Бурлюке подобие типичного американского коммивояжера? Нет, здесь было дело, вероятно, в чём-то другом... (...)
И, наконец, вопрос Бурлюка, повторенный Бог знает, в который раз («Так что же желал бы Сергей Александрович увидеть в своеобразнейшем городе Нью-Йорке?»), вызвал у Есенина особенно резкую вспышку. Он (...) объявил: никуда он здесь не хочет идти, ничего не намерен смотреть, вообще не интересуется в Америке решительно ничем.»
Нет, Есенин не только оглядит Америку, но и осмыслит ее и опишет в статье «Железный Миргород», напечатанной в двадцать третьем году в газете «Известия»:
«...Американский фокстрот есть не что иное, как разжиженный национальный танец самба. В остальном негры — народ довольно примитивный, с весьма необузданными нравами. Сами американцы — народ тоже весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в бизнес и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей степени развития.(...)
Для русского уха и глаза вообще Америка, а главным образом Нью-Йорк, — немного с кровью Одессы и западных областей. Нью-Йорк на 30 процентов еврейский город. Евреев главным образом загнала туда судьба скитальчества из-за погромов. (...)
Сила железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение».
Как это современно звучит. Вот что такое Америка, которая себя навязывает миру мечом и обманом...
Америка, как апокалипсис человечества, омертвления живого мира, долго будет тревожить душу поэта. Он будет думать о ней даже тогда, когда будет писать свою поэму «Страна негодяев», хотя и посвященную благородному «разбойнику», крестьянскому заступнику батьке Махно. Софья Андреевна Толстая-Есенина вспоминала:
«Замысел пьесы «Страна негодяев» всё время менялся по ходу работы. (...) Расширение замысла (…) произошло после его поездки в США, о чём он мне не раз говорил... Есенин рассказывал мне, что он ходил в Нью-Йорке специально посмотреть знаменитую нью-йоркскую биржу, в огромном зале которой толпятся многие тысячи людей и совершают в обстановке шума и гама сотни тысяч сделок. «Это страшнее, чем быть окруженным стаей волков», — говорил Есенин. — Что значит наши маленькие воришки и бандюги в сравнении с ними? Вот где она — страна негодяев!»
И в этой поэме у Есенина слились в негодяйстве и американский буржуа-коммерсант, и большевик Чекистов (прообраз Лейбы Троцкого), «еврей из Лейпцига», циничный материалист, ненавидящий Православную Церковь; и оба они слуги «черного человека», Князя тьмы и зла.
* * *
Поэта Есенина за бугром воспринимали, лишь как мужа Айседоры Дункан, — по впечатлению Горького, сумасбродной, стареющей, но молодящейся танцовщицы, имевшей к тому времени мировую славу. При всей суматошности своего характера и ненасытной чувственности, Дункан, по воспоминаниям знавших её, имела душу светлую и добрую. Она, годная поэту чуть ли не в матери, вянущая женщина, — любила Есенина неистовой, закатной любовью; и она любила его не только за нежную красу и стать, и не только за талант - она любила его и матерински, видя в Есенине как бы и своего погибшего сына. Она, даже с трудом изъясняясь с Есениным по-русски, малознакомая с русским искусством, тем не менее, женским и материнским сердцем чуяла и его поэзию, и его больную душу.
Итак, американские буржуи породили в Есенине одну лишь брезгливость: у них вместо глаз доллары, голова — кассовый аппарат, считающий купюры, а сердце — кипящий котел с нечистотами, бурлящими из канализационной трубы рта. И одной из причин брезгливого отношения Есенина к американским обывателям стало их равнодушие к поэзии. И уж кровно обидело, оскорбило Есенина, болезненно самолюбивого и честолюбивого, полное безразличие американцев к его поэзии и к нему самому. (Толпы репортёров крутятся лишь возле Дуньки, так Есенин на деревенский лад дразнил свою жёнушку.) Ему было непостижимо, как же можно было не полюбить его, которого в России со слезами и ликованием слушали толпы читателей; его, которого носили на руках поклонники, а поклонницы-курсистки в любовном безумии готовы были целовать следы; его, которому прощались скандалы в ресторанах и долги в гостиницах, стоило ему сказать магическое: «Я Есенин»; его, крестьянского поэта, которого даже вождь пролетарской литературы, косо глядевший на крестьянство, все же назвал «великим русским поэтом»; его, которого вынуждены были принять и признать даже и правители-большевики; его, о котором наперебой писали газеты, издатели рвали рукописи из рук, — и как же можно было не полюбить такого поэта. Впрочем, чего было и ожидать от слуг желтого дьявола, для которых поэзия, — бред сумасшедшего, а в лучшем случае, — блажь, баловство бездельника.
Ну, ладно, американцы, у которых души заплыли жиром и закаменели, но Есенинскую поэзию за океаном не приняли и русскоязычные еврейские эмигранты. Морис Мендельсон вспоминает об этом:
«За год до приезда Есенина в Америку Ярмолинский совместно со своей женой, поэтессой и переводчицей Баббет Дейч, издал в переводе на английский язык сборник стихов русских поэтов. Эта антология включала и переводы нескольких есенинских произведений. Узнав об этом, поэт обратился к Ярмолинскому с просьбой издать отдельной книжкой его стихи на английском языке.
По признанию Ярмолинского, это предложение Есенина он «не принял всерьез».(...) И переданные ему Есениным рукописи стихов остались лежать без движения. (...) Творчество поэта было чуждо супругам Ярмолинским».
Понятно, какую «русскую» поэзию издавала чета Ярмолинских, если в ней не нашлось место Есенину.
* * *
Вот так и покорил великий русский поэт Америку, но, побывав в «Железном Миргороде» - в «стране негодяев», он пуще прежнего возлюбил свою и убогую, и великую Русь.
Русь моя, деревянная,
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой.
Всеволод Рождественский вспоминает слова поэта, возвратившегося «из-за бугра»:
« — Какого чёрта шатался я по заграницам? Что мне там было глядеть? Россия! — произнес он протяжно и грустно. — Россия! Какое хорошее слово... И «роса» и «синее» что-то. Эх! — ударил он вдруг кулаком по столу. — Неужели для меня всё это уже поздно?»
Поминая Америку, о Маяковском, с которым всю жизнь тягался, скажет, что он «американец, а я русский». Откровенничая с Эрлихом, прибавит:
« — Знаешь, почему я — поэт, а Маяковский так себе — непонятная профессия? У меня родина есть! У меня — Рязань! (...) А у него — шиш. Вот он и бродит без дорог, и ткнуться некуда. (...) Нет поэта без родины.»
«Под чужую песню и пою, и плачу...»
Есенин принял в душу большевистский переворот, — много в его душе было близкого революционному духу, дикого, бунтарского, разинского, и даже, просто, озорного, хулиганского.
Мать моя Родина,
Я большевик....
Как и часть крестьян, из малосильных, с ленцой, и к тому же ослабших в вере православной, в полную душу поверил лукавым посулам революционеров-ленинцев; поверил по-мужичьи в благодатную страну Вырей, где и оглобля прорастёт и хлебным зерном заколосится, ежели эту оглоблю в землю пихнуть. Посулы были сладкими, хотя, как в деревне говорят, сладко в рот, да горько в сглот. Но об этом по-первости не думалось, коль в голове шало гудел октябрьский разбойный ветер. И какие призывы гремели в свисте кровавого ветра: крестьянам — земля, свобода, равенство и братство!
Земля — крестьянам!.. Про это русский мужик все века думал-гадал.
Равенство!.. Мужик, чего уж греха таить, страдал от социального неравенства, чуял, что для бар он, деревня битая, рабочая скотинка, чёрная кость. И крестьяне в свою очередь недолюбливали дворян (и заодно интеллигенцию), которые, по их разумению, задурили от праздности, погрязли, не каясь, в грехах и пороках, сами свихнулись от книжного учения и маловерия и народ пошли баломутить.
Хотя Есенин — натура предельно противоречивая, — изображая из себя аристократа, щеголяя в английских костюмах, в то же время по-мужичьи презирал аристократов. (Все это в нём как-то уживалось). Всеволод Рождественский пишет о том, как однажды крестьянские поэты Клюев и Есенин были приглашены в дом графини Клейнмихель, «представительницы одного из крайних монархических течений»:
«В великолепном особняке на Сергиевской собралось общество, близкое к придворным кругам. За парадным ужином, под гул разговоров, звон посуды и лязг ножей, Есенин читал свои стихи и чувствовал себя в положении ярмарочного фигляра, которого едва удостаивают высокомерным любопытством. Он сдерживал закипавшую в нём злость и проклинал себя за то, что согласился сопутствовать Клюеву».
А будучи санитаром в госпитале Царского Села, имел честь читать патриотические стихи царице и царевнам, о чём, опять же, поминал с сословной неприязнью:
«Я читаю, а они вздыхают: «Ах, это всё о народе, о великом нашем мученике-страдальце...» И платочек из сумочки вынимают. Такое меня зло взяло. Думаю — что вы в этом народе понимаете?»
Если оцерквленного христианина мало волновало социальное неравенство, — последний на земле, первый у Бога в Царствии Небесном, — то отпавших от веры, каким стал и Есенин, такое неравенство приводит в ярость, толкает на бунт, — русский, кровавый и безумный.
Братство!.. Этим и не нужно было мужиков соблазнять, если братчиной (общиной — по-сути, коллективным хозяйством) русские мужики жили все века. Недаром же Маркс, которого Есенин «ни при какой погоде не читал», в своё время говаривал, что, мол, в России и революции социалистической не нужно, коль там уже есть готовая, почти социалистическая форма труда и быта — русская община.
Свобода!.. Есенин, как и часть крестьян, потерявших страх Господень, побежал за большевиками, «задрав штаны». И брёл за ними даже в последние годы, когда уже терял в них веру. Дункан за границей, указывая на Есенина, говорила: «Он коммунист». На что поэт отзывался: дескать, он еще левее коммунистов. И это он, обычный Есенин, — полный противоречий и несовместимостей.
Есенин, как и, опять же, часть крестьян, пошёл за большевиками по причине того, что, как некогда бунтари Разин и Пугачев, искусился языческой свободой, то есть, внешней волей — куда хочу, туда и ворочу, и Помазанник Божий мне не указ. Но духовно трезвенные крестьяне понимали лишь свободу во Христе, то есть, внутреннюю, когда ты лишь раб Божий, когда стараешься быть свободным от бесчисленных злых искусов. Святейший патриарх Тихон, за Христову Церковь принявший мученическую погибель от рук богоборческой ленинской власти, так писал об этом: «А вот мы, к скорби и стыду нашему, дожили до того времени, когда явное нарушение заповедей Божиих уже не только не признаётся грехом. Но и оправдывается как законное».
Но слишком много в рязанском поэте было от шалого славянского язычества, недаром же так любил «Поэтические воззрения славян на природу» Афанасьева. И недёшево стоило Есенину и многим крестьянам это искушение языческой свободой, какая всегда выливается во вседозволенность, в оправдание убийства, насилия, греха и порока. Дорого стоил нашему народу этот искус - языческая воля, ибо тут и были дьявольские сети, которые расставили большевики, в которые крестьяне и угодили, куда попал и наш поэт. Забрыкались, зашумели, ан поздно, — ярмо рабское, какого не знали и при крепостном праве, уже накинуто на шею. А тех, кто взялся было за топоры и колья, подавили огнём и мечом.
Знакомясь с Александром Воронским. критиком, публицистом и издателем, Есенин сказал:
« — Имейте в виду, я знаю, — вы коммунист. Я — тоже за Советскую власть, но я люблю Русь. Я — по-своему. (как эсер, с крестьянским уклоном, — А.Б.) Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду. Это не выйдет».
* * *
А позже, не шибко и тая свою приязнь, Есенин становится почитателем батьки Махно. Этот, ещё маловедомый нынешнему читателю мужичий предводитель, бил по началу белых (угнетателей крестьян), а потом поднялся и на красных (тоже угнетателей крестьян). Когда поэт скорбит о том, что стальной конь (паровоз) победил «смешного дуралея» жеребёнка, — то есть, обогнал коня живого, мужичьего, — то видит батьку Махно, который сражался за Русь избяную и соломенную против демона «железной» цивилизации.
В августе двадцатого года Есенин пишет девятнадцатилетней девушке Жене Лившиц, размышляя о Махно:
«Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребёнок был для меня наглядным, дорогим, вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребёнка, тягательством живой силы с железной... Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжёлую эпоху умерщвления личности как живого».
В поэме «Страна негодяев» Есенин в образе Номаха и выводит крестьянского верховода, народного бунтовщика батьку Махно (Номах-Махно — тут лишь слоги переставлены), который бьётся с негодяями, навроде Чекистова (Лейба Троцкий).
«Дайте мне на Родине любимой, Все любя, спокойно умереть».
В России мрачные позимки — ленинский террор, который похлесче сталинского, ибо в первом случае, истребление русского национального, во втором — карающий меч опускается на инославную ленинскую гвардию… хотя, конечно... лес рубят — щепки летят. Не уследить было Сталину в неохватной империи, что творят его именем в российской глубинке. И хотя у Есенина всероссийская слава, но тучи над ним сгущаются. Поэт, как и прежде, то ли искренне, то ли из чувства самосохранения на всех углах клянется в своей преданности большевикам. Александр Воронский вспоминал:
«Иногда он говаривал по поводу своих заграничных скандалов: «Ну, да, скандалил, но ведь я скандалил хорошо, я за русскую революцию скандалил». И повторял рассказ о том, как в Берлине на вечере белых писателей он требовал «Интернационал», а в Париже стал, издеваться над врангелевцами и деникинцами, в отставке ставшими ресторанными «шестерками». И там и здесь его били».
А ведь в числе этих белых писателей были и Куприн, и Бунин, и Шмелев, и ещё много русских, которые не приняли противорусской власти, убивающей дух и плоть Святой Руси. И тут Есенин — само противоречие.
Но комиссарам было на руку, что поэт за большевиков, и поносит белогвардейщину, как оплот царизма. И они терпят его, то хулиганствующего, то крестьянствующего и «тоскующего по небесам». Им нелегко терпеть лишь его частые антисемитские выходки, если учесть, ленинский комиссариат за ничтожным исключением еврейский. Приходит конец их долготерпению. Тем более, они понимают, что «намордник» на поэта не смогли надеть, что тот уже и не певец интернационала и Октября, а по смутным своим убеждениям скорее национал-социалист с крестьянским уклоном или национал-анархист махновского толка.
И, похоже, последней каплей их терпения становится легендарная и мужественная поэма Есенина «Страна негодяев», в которой большевиков приводит в ярость не столько даже «облагороженный» батька Махно, крестьянский заступник, сколько образ типичного ленинского комиссара Чекистова (напомним, прообраз Лейба Троцкий). Разве могли троцкие, которыми кишел ленинский комиссариат, простить такие монологи...
«НОМАХ (МАХНО)
Ваше (большевистское) равенство — обман и ложь.// Старая гнусная шарманка // Этот мир идейных дел и слов.// Для глупцов — хорошая приманка,// Подлецам - порядочный улов. (Выделено мною, — А.Б.)
ЧЕКИСТОВ (Троцкий)
Нет бездарней и лицемерней,// Чем ваш русский равнинный мужик! (...) //То ли дело Европа? // Там тебе не вот эти хаты,// Которым, как глупым курам,// Головы нужно давно под топор...
ЗАМАРАШКИН (русский красноармеец)
Слушай, Чекистов!.. //С каких это пор //Ты стал иностранец?// Я знаю, что ты еврей,// Фамилия твоя Лейбман, //И чёрт с тобой, что ты жил //За границей.... (...)
ЧЕКИСТОВ (Троцкий)
Ха-ха1 //Нет, Замарашкин! //Я гражданин из Веймара //И приехал сюда не как еврей,// А как обладающий даром //Укрощать дураков и зверей.// Я ругаюсь и буду упорно //Проклинать вас хоть тысячи лет,// Потому что...// Потому что хочу в уборную,// А уборных я России нет. //Странный и смешной вы народ1// Жили весь век свой нищими //И строили храмы Божии...// Да я б их давным-давно //Перестроил в места отхожие». (Выделено мною, — А.Б.)
И перестроили служители Князя тьмы, начав разрушения Руси с церквей, поскольку и сама революция была актом религиозно-мистическим, богоборческим. Как сказал великий русский философ Иван Ильин: «Сущность катастрофы духовна. Это есть кризис русской религиозности. Кризис чести и совести. Кризис русского национального сознания. Кризис русской семьи. Великий и духовный кризис всей русской истории».
* * *
Уже будучи за границей с Дункан, Сергей Есенин чуял, что над ним в России готовится расправа, и жизнь его на волоске. Он бы мог где-то «за бугром» и осесть, как сотни русских писателей, ученых, художников, деятелей, — тем более, под крылом такой жёнушки, как Дункан, имевшей мировую славу и деньги, к тому же души в нём не чаявшей. Но слишком уж сильно поэт не любил заграницу, особенно Америку, духовно и творчески убитую «прогрессом», слишком уж страстно, до слез и сердечной боли любил свою березовую Русь. Даже чуя, что возвращается на верную погибель, не вернуться в Россию не мог.
Дайте мне на Родине любимой,
Все любя, спокойно умереть.
Начинается травля поэта. Пишутся ругательные статьи, которые тогда ничем не отличались от доносов в ЧК, после которых или пускали в распыл или ссылали туда, где Макар телят не пас и откуда никто не возвращался.
Заодно с Есениным (в разное время) травят и всех крестьянских поэтов Клюева, Клычкова, Орешина, Ганина, Наседкина, Приблудного, Корнилова, Васильева. Всех их потом троцкие сгубили.
Этот песий лай продолжится и после гибели Есенина. Уж они ему все обиды припомнят, всю свою злость и зависть выплеснут... Крученный-ссученный стихотворец Крученых даже напишет книжки против русского поэта – «Есенин и Москва кабацкая», «Лики Есенина — от херувима до хулигана», «Чёрная тайна Есенина»...
Крученых: «До тех пор наша молодежь не будет окончательно вытрезвлена от Есенинского запоя, пока в тугие мозги «есенистов от критики» не проникнет сознание глубочайшей общественной вредности творимого ими «чествования» и «обожествления памяти» великого развратителя юных умов — я не могу сложить пера.»
Луначарский: «Что такое Есенинщина? Это олицетворение хулиганства, унынья, пессимизма и наркомании. Все эти качества были и у Есенина...»
Бухарин: «Есенинщина» — самое вредное, заслуживающее настоящего бичевания явление нашего литературного дня. По Есенинщине нужно дать хорошенький залп.»
«...Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни: мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни вообще.»
«С мужицко-кулацким естеством прошел по полям революции Сергей Есенин.»
«Причудливая смесь из «кобелей», «икон», «сисястых баб», «жарких свечей», березок, луны, сук. Господа Бога, некрофилии и т. д. - все это под юродствующего квазинародного националиста - вот что такое Есенинщина.»
Есенина травят, как волка, окружив ненавистными и пугающими красными флажками; а потом, ошалевшего от погони, от яростного шума и гама, измотанного, смертельно усталого, раненного добивают.
А для травли, к сожалению, жизнь поэта, путаная, противоречивая, давала, конечно, много поводов.
Есенина убили в петроградской гостинице «Англетер» и всунули в петлю — есть тому немало свидетельств. Случилось даже не просто заказное убийство, какие происходят нынче в мафиозных разборках, — а убийство идеологическое. Этим оно похоже и на истребление царской семьи.
* * *
Художники — талантливо и страстно напоминающие русским, что они русские, что имели счастье родиться в великом народе, который ещё недавно был духовно-христианским светочем и спасительной надеждой человечества, который за десять крещённых веков создал самое высокое и самое живописное в мире искусство, художники — указывающие русским, что у них есть лишь одно счастливое предназначение в этой жизни, послужить нашему божественному Отечеству, — такие художники, тем более, имеющие всероссийскую славу и особенно выход и влияние на молодежь, всегда опасны слугам Князя Тьмы, разъедающим нации и государства, ныне добивающим нашу несчастную Россию. Таких художников, которых уже невозможно замолчать, как невозможно искусить соблазнами мира сего, — таких убирают. Василий Шукшин после таинственной смерти – неугасимая лампада русской совести, что предтеча православного духа любви к Вышнему и ближнему Христа ради. Убиенный Николай Рубцов, лирика которого созвучна Есенинской по нежной, восхительной и сострадательной любви к малой родине, а лишь из сей любви зреет и любовь к Великой Родине, к России, даже при всех ее бедах и скорбях.
Но, если жизнь хрупка и недолговечна, то прекрасные стихи Есенина, как и лирика созвучных ему по душе русских писателей, могут жить вечно, пока жив русский человек, с его духовными взлетами и падениями, с его неумирающей тоской по небесам.
1995, 1998 годы














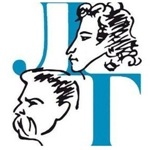








1. Вынос мозга по-антисоветски