
«Ждали хама, глупца непотребного...»
Есенин явился в смуту и разгул интеллигентской поэзии, прозванной серебренной. Интеллигенция тогда и оседлала общественную мысль, и мысль эта, обезбоженная, неслась, как библейские свиньи, в коих бес вошёл, летела в пропасть, увлекая за собой народ. Впрочем, те из народа, кто был в трезвом уме и ещё от Церкви не отбился, звали это опасное сословие гнилой интеллигенцией, а самые рьяные из простонародья и вовсе били тех, кто носил очки. Их и прозвали черносотенцами, охотнорядцами.
Святой Иоанн Кронштадтский в грозных и пророческих словах интеллигенцию предал анафеме: «Не стало у интеллигенции любви к Родине, и она готова продать её инородцам, как Иуда предал Христа злым книжникам и фарисеям, уже не говорю о том, что не стало у неё веры в Церковь, возродившей нас для Бога и Небесного Отечества.»
Итак, Есенин влетел прямо в серебряный век интеллигентского искусства — в гнусавый и слюнявый декаданс, в железный скрежет футуризма, в безродный, пахнущий могильной плесенью, слащавый романтизм, изощрённый разврат поэтических салонов, в прокуренную и пропитую, брехливую, хвастливую богему. Но и серебрянный век, хотя и духовно смутный, все же породил великие таланты: Блок. Бунин, Белый, Андреев, Горький, Ахматова, Цветаева…; но и они, душераздирающе противоречивые, истерзанные духовной борьбой, воплощенной в сочинениях, то светились божественной любовью, то источали демонический мрак: вот студёный Блок, коему надоели эти обезьяны, — чернь простонародная; вот мелкопоместный, но высокомерный дворянин и честолюбивый писатель Бунин; вот Андреев, душу и разум которого стремительно пожирал князь тьмы и который, впадая в безумие, пугал рассказами великого Толстого, а Льву было не страшно; вот презирающий крестьян, бродяга и материалист-социалист Алеша Пешков; вот пропахший древне-латинской книжной пылью академик Брюсов; вот истомленная воспетыми грехами Ахматова; вот утонувшая в зауми и духовной прелести Цветаева; вот скрежещущий стальными, пролетарскими зубами Маяковский; вот Мандельштам, что говорил о себе: мол, «весь изолгался…»; вот Пастернак, с изощренным, книжным слогом, где уже не чуется душа… Впрочем, сии писатели в душевной брани своей во сто крат сложнее, чем о о них речено выше…
Поэтические салоны Сергея Есенина, поэта деревенского, поначалу низко оценят, не смогут понять, как и народ свой не смогли понять, да и не утруждали себя этим, утонувшие в своих больных мирах. Усмехаются Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, — гой еси, Лель златокудрый в жёлтых лапоточках... — просят сплясать «камаринского мужика».
Но парень деревенский тоже был не промах, тоже себе на уме, и пока терпел, потому что чуял, знал: завтра многие почтут за счастье пожать его мужичью руку, будут заискивать и величать. Но по-первости они ещё куражились над парнем и шептали: дескать, оно, конечно, самородок и прочее такое, но... тёмный, неотесанный, без приличного образования.
Понимает Есенина лишь его учитель Клюев Николай (это потом придет мучительный разрыв, в причинах которого, как в ворохе поношенного белья, может быть, и не стоит копаться); поймут Есенина и крестьянские поэты из «Красы» — их будущего братства, как, может быть, понимали, жалели и переживали за него, писатели здорового (по сути своей, славянофильского) русского крыла: Шмелев, Зайцев, Куприн... Но, как в жизни и бывает, молодого поэта, словно белокрылого, лесного метляка, несёт в пожирающий демонический костер...
Клюев пытался спасти Есенина от тяги в поэтические салоны, но увы… Кстати сказать, до Клюевского любомудрого слога салонным поэтам было как из ущелья до небес: волшебник древнерусского словесного узора, Клюев в поэтическую пряжу искусно вплёл великие миры – языческая Русь и Святая Русь, Святое Писание и Священное Предание по-церковнославянски, старообрядческая мифология, северное сказовое, былинное и вопленное слово; и, сплетя в образах сии миры с их дольней и горней мудростью, по русскому образному слову превзошел всех поэтов, допрежь прославленных, и при жизни его, и по нынешнее время, да и грядущему не осилить. Клюев был воистину гений; но уже закодированный, уже как исследователь русского мира; а Есенин превзошел Клюева по ясной, истовой любви к Руси, к русскому простолюдину. Скажем, Астафьев далеко обошел Шукшина по художественному слову, но до Шукшинской совести, до Шукшинской сострадательной и восхитительной любви к русскому народ не взошёл. Лишь Шукшина и Белова можно повеличать совестью народной.
Хотя и порой духовно невнятный, перемешавший северное скитское старообрядчество со славянским язычеством, но всё же чародей словестного орнамента, Клюев, словно вызов, бросит в холеное барское лицо и в унылую, порочную маску декаденствующей неруси:
Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз,
Даль повыслала отрока вербного,
С голоском слаще девичьих бус. (…)
Он поведал про сумерки карие,
Про стога, про отжиночный сноп.
Зашипели газеты: «Татария!
И Есенин—поэт-юдофоб!»
Если вначале Есенин подыгрывает салонной литературной богеме, изображая сельского паренька, то, вскоре оперившись, бросает с грубым вызовом:
Посмотрим —
Кто кого возьмет!
И вот в стихах моих
Забила
В салонный, выхолощенный
Сброд
Мочой рязанская кобыла.
Не нравится?
Да, вы правы —
Привычка к Лориган
И к розам...
Но этот хлеб,
Что жрёте вы, —
Ведь мы его того-с...
Навозом...
Нынче болтают …глупость или подлая хитрость?.. болтают, что поэты «серебрянного века» были кумирами молодежи, а спросим: какой?.. Какой молодежи, если о ту пору еще девяносто процентов составляло крестьянство, и деревенские парни и девки, не имея книжной грамоты, не слыхали про «серебрянных» поэтова, но, вместив в творческий дух тысячелетнюю устную поэзию, еще пели: «Ах вы, сени мои, сени, сени новые, кленовые…», а вечерами при лучине слушали жития святых, мифы, легенды, охоничьи, рыбачьи, житейские бывальщины и былички про избянную, овинную, банную, лесную, болотную и речную нежить…
* * *
Итак, дворянско-интеллигентский салон счёл Есенина, хотя и народно и природно даровитым, но поэтом без должного образования, — одно слово, лаптем щи хлебает, рязань кособрюхая. Но так ли это было?.. О ту пору жили, хотя и с трудом уживались, и помянутое нами просвещение, условно называемое книжным (от него народу выпало немало лиха), и просвещение народное — мудрость, где могло и не быть книжной грамотности, но где, как небо и земля, сливались в сердце и уме простолюдина православное и народно-обрядовое, природное знание, — суть, домострой. У Есенина изначально и была эта народная просвещенность или, скажем, крестьянская мудрость. (Другое дело, что он не уберёг ее в себе в полноте и чистоте, палимый честолюбием, закрутившись в хмельной и суетной столичной жизни.) Ранний и яркий, певучий талант — и всё от золотой избы, полей и перелесков, от алых зорь, пылающих закатов, от пения и говора народного, которые по тем летам были ещё щедры и величавы.
Уже в пятнадцать лет Есенин сочинит:
Выткался на озере алый свет зари,
На бору со стонами плачут глухари..
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется - на душе светло.
Иной бы нынешний поэт вздохнул: такое стихотворение написать и помирать не страшно, — не зарыл в землю талант.
А в шестнадцать Есенин напишет:
Хороша была Танюша,
Краше не было в селе...
Потом будет вспоминать:
«Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16 - 17 годам...»
А что до книжного образования, то читать Есенин начал лет с пяти, а потом много добирал самоуком. Первыми книгами поэта, конечно же, были Священное Писание, «Жития святых и преподобных отец наших», то есть «Четьи-Минеи святителя Димитрия Ростовского» и духовные стихи. Потом уже появились былины, бывальщины, сказы и сказки. Среди его любимых произведений, по воспоминаниям родных, были «Слово о полку Игореве», «Поэтические воззрения славян на природу» Александра Афанасьева, и, конечно, русская классическая проза и поэзия, опять же близкая к народной жизни, в духе Гоголя, Лескова, раннего Толстого, Кольцова, Сурикова, Дрожжина.
Словом, Есенин по тем временам для крестьянского сына был достаточно образован. Только начитанность и глубокие философские раздумья о судьбе русской культуры могли породить «Ключи Марии» — научный труд (не станем пугаться эдакого величания), где есть, конечно, мировоззренческая, а для христианина даже и еретическая путаница в толковании мира, в слиянии неслиянного (язычества и христианства), где есть, конечно, и лихая, часто искусственная, имажинистская метафоричность (недаром «Ключи...» и посвящены «никотинному другу» Мариенгофу, который цинично баловался со словами и чувствами). Немало там ребячества, пустого мудрствования, но и немало интуитивных открытый из истории развития русского духа и слова. А главное, в «Ключах Марии» Есенин выразил предвиденье лихой поры, когда штемпелеванная или, как нынче говорят, массовая поп-культура, словно бесы, войдёт в народ и погонит в пропасть.
«Стыдно мне, что я в Бога верил,
Горько мне, что не верю теперь.»
Однажды некий иркутский поэт, мастер легкого, иронического стиха, раздраженно доказывал, что христианин не может быть поэтом, и наоборот, пишущий стихи перестанет быть христианином. То есть христианское начало в душе несовместимо с художническим, ибо, как мы уже говорили вначале, искусство — искус демонский. И тут поминались наши православные святые, старцы неодобрительно относящиеся к искусству.
Есть тут доля правды (но не вся правда): многие русские писатели, как мне представляется, так и прожили с мукой раздвоенного сознания, несовместимости в себе христианского и художнического начал.
Священное Писание учит любви к Богу и даёт человеку нравственные правила жизни на земле ради бесплотной и вечной, истинно счастливой жизни души за гробом. Искусство толкает человека в смуту, блуждания, нравственный тупик, и наконец, — в вечные муки души за гробом.
Но есть и тут исключения: иконопись, духовная поэзия и проза, где совершенно гармонично уживаются христианское чувство и художническое. Есть подобные примеры и в светском искусстве. Вспомним хотя бы художников Иванова с его «Явлением Христа народу», Нестерова с его «Явлением отроку Варфоломею»; перечтём у Ивана Шмелёва (кстати, современника Есенина) «Лето Господне» и «Богомолье»: перед нами, читателями, русский, глубоко православный человек и художник, в красоте слова не уступающий ни Куприну, ни Бунину. В конце концов, при всех искренних и страстных душевных муках своего несовершенства христианского, жил и творил с идеалом Христа Фёдор Достоевский, с этим идеалом завершил свой век и Николай Гоголь. Да и у многих других именитых русских писателей прошлого века (и прежде всего у Пушкина, и даже у Лермонтова, порой и страдавшего демонизмом,) мы найдём немало произведений, про которые можно сказать, что здесь талант от любви к Богу и ближнему, к Руси, слышащей Глас Божий.
Николай Гоголь — и сам великий поэт даже и в прозе — писал поэту Языкову о русском лиризме, где печаль светла, без грешного унынья:
«Вновь повторю то же самое: в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому - то высшее состояние лиризма, которое чуждо увлечений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости. (...) Наши поэты видели всякий высокий предмет в его законном соприкосновении с верховным источником лиризма — Богом, одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа вследствие своей русской природы, уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему.»
Чтобы уж окончательно доказать, что искусство может служить и высшей божественной любви, — порой и не прямо, как молитва, а уже и проповедью любви к «други своя», обращением к земной совести, — возьмём, опять же, устное народное творчество, в котором бесчисленное множество произведений, где, как сказал Достоевский, «поэт не ниже Пушкина». Оно, народное творчество, уже через век после крещения Руси, было одухотворено верой во Спасителя.
Обратимся к былинам — где высший взлёт народной поэзии — везде там верховенствует идея святой, православной Руси; за неё перво-наперво и готовы сложить буйны головы богатыри святорусские.
Илья Муромец (его прототип — знаменитый на Руси ратник-дружинник, а потом инок Киево-Печерского монастыря, святой преподобный Илия Муромец, по прозвищу Чоботок,) — истинный христианин, проскакавший по бранным полям, будто под крылом Михаила Архангела, Небесного Покровителя Земли Русской.
– Ох, ты гой еси, родимый батюшка!
Дай ты мне свое благословеньице,
— просит Илья своего отца, карачаровского крестьянина Ивана Тимофеевича,
— Я поеду в славный стольный Киев-град,
Помолиться чудотворцам Киевским...
Постоять за веру христианскую...
Все былины указывают на глубокое христианское чувство Ильи:
Взмолился стар казак Илия Муромец
Тому угоднику Божьему Николаю:
— Погибаю я за веру христианскую!
У Илейки силы вдвое прибыло...
Подобное из народной поэзии, где в основе христианское мировоззрение, можно приводить бесчисленное множество.
* * *
Но вернёмся к нашему любимому поэту Сергею Есенину... Несмотря на то, что Есенин стал для жиганов-воров, богохульников чуть ли не идолом, начинал он всё же как поэт с православным мироощущением и мировозрением, может быть, лишь слегка замутнённым народно-ообрядовой стихией; и — странно это или не странно — в ранней юности даже имел мечтательную тягу к смиренному иночеству, к духовному подвигу, к отречению от суетного мира ради служения Богу. Разумеется, тут больше, от светлой мечтательности, не от готовности и жажды монашеского подвига, и, тем не менее, это жило в душе юного поэта.
Проходили калики деревнями,
Выпивали под окнами квасу,
У церквей пред затворами древними
Поклонялись пречистому Спасу…
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь...
Пойду в скуфье смиренным иноком...
Христианское начало в ранней есенинской поэзии обретало даже и грозную, духовно-оборонительную страсть, подобную той, какая укрепляла былинного богатыря Илью Муромца перед битвой с хазарско-иудейским богатырем, нахвальщиной Жидовином: «Я за веру стоял да Христовую, // Я за церкви стоял да за соборные...» Эта оборонительная мистически-православная страсть в Есенине была и сродни грозным поучениям праведного Иоанна Кронштадтского, которому о ту пору как раз и внимала вся православная русь, как нация. У Есенина это выразилось в стихотворении «Певущий зов», посвященном Рождеству Христову и написанном, что символично, в семнадцатом году, в предреволюционном Петрограде:
О Родина,
Мое русское поле,
И вы, сыновья, ее,
Остановившие
На частоколе
Луну и солнце, —
Хвалите Бога!
(...) Сгинь, ты, английское юдо,
Расплещися по морям!
Наше северное чудо
Не постичь твоим сынам!
Не познать тебе Фавора...
Здесь поэт созвучен не только крестьянскому сыну, казачьему атаману, а потом смиренному иноку Илие Муромцу (в былинах Илья Муромец — собирательный образ русского народа), но и великому православному писателю, митрополиту Иллариону, что в своём порывистом, но мудром «Слове о Законе и Благодати» показывает спасительность для души христианской Благодати и пагубность иудейского Закона. Митрополит Илларион утверждает: «...Ибо иудеи о земном радели, а христиане же - о небесном...»
Впрочем, у юного Есенина молитвенное настроение вдруг сменялось язычески разгульным, — и это в русском характере искони — что и выражалось в поэзии. Вспомним:
Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет.
Не обошла Есенина стороной и бывшая тогда в большом ходу идея христианского социализма. Если у Александра Блока при описании революционной дружины – «...В белом венчике из роз // Впереди Иисус Христос...», то у Есенина в стихотворении о мальчике Мартине (сыне бедного рабочего) Христос - товарищ угнетенных, бьется против буржуев «за волю, // За равенство и труд!», за республику, и гибнет в революционной схватке:
Но вдруг огни сверкнули...
Залаял медный груз.
И пал, сраженный пулей,
Младенец Иисус.
* * *
Есенин вырос в русской патриархальной, воцерквлённой семье. О чём и вспоминал:
«Бабка была религиозная, таскала меня по монастырям. Дома собирала всех увечных, которые поют по русским селам духовные стихи от «Лазаря» до «Миколы».
Но уже в детстве талантливого, охочего до чтения и учения отрока искушал демон сомнения. С одной стороны, богомольная бабка водила его по монастырям и по церквам, а дедушка «по субботам и воскресным дням рассказывал Библию и священную историю», с другой стороны, отрок «рос озорным и непослушным; был драчун; в Бога верил мало. В церковь ходить не любил».
К этому надо прибавить и то, что в Есенине бродили, так — чего греха таить — и неугасшие за десять веков после Святого Крещения природно-языческие страсти:
Матушка в Купальницу,
По лесу ходила,
Босая, с подтыками,
По росе бродила.(...)
Вырос я до зрелости,
Внук купальской ночи.
Сутемень колдовская
Счастье мне пророчила.
Словом, боголюбие в Есенине была замутнено. В семнадцать лет он пишет из Москвы своему другу Грише Панфилову:
«Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового... Христос для меня совершенство».
Но тут же в его размышления проникает богопротивная ересь, неведомо откуда подхваченная, похожая на ересь и ренановскую, и толстовскую, когда мистически непостижимый, растворённый в мире и в наших душах Бог понимается, как человек. Есенин приписывает:
«Но я не так верую в него, как другие. Те веруют из страха, что будет после смерти. А я чисто и свято, как в человека, одаренного светлым умом и благородною душою, как образец в последовании любви к ближнему».
Мучительный распад и разлад в есенинской душе, — порождённый ещё в отрочестве и усиленный чтением светских книжек, — нарастает, чему сопутствует и время богоборчества в России; а порой, случается, демоническая ночь и вовсе затмевает в его душе божественный небесный свет. День сменяет долгая, злая, отчаянная ночь... И рождается в самый разгар большевистской атеистической одури поэма «Инония», где поэт надсадно кричит:
Тело, Христово тело,
Выплевываю изо рта.
Не упомню, как в мировом искусстве, но в русском такого богоборчества — демонически-гениального, народно выраженного, — до Есенина, кажется, не было, если не брать в расчет пошлую и богохульную «гаврилиаду», от которой, божась, открестился Пушкин. Ибо, как писал великий наш философ Иван Ильин, русское искусство и вся многовековая русская культура «слагалась и крепла и расцветала в духе Православия. Русское искусство всё целиком выросло из свободного сердечного созерцания. Надо увидеть сердцем ту глубокую связь, которая соединяет русскоправославных Святых и Старцев с укладом русской простонародной и образованной души. Весь русский быт — иной и особенный, потому что славянская душа укрепила свое сердце в заветах Православия. И самые русские инословные исповедания (за исключением католицизма) восприняли в себя лучи этой свободы, простоты, сердечности и искренности».
Где-то искренне, где-то из попыток приспособится к богоборческим властям, захватившим Россию, Есенин чуть ли не до самой смерти кается в своей ранней религиозности, — «...и молиться не учи, не надо, к старому возврата больше нет...» — и доходит до того, что уже почти готов отречься от своей крестьянской православной среды. Незадолго до смерти признаётся:
«Самый щекотливый этап — это моя религиозность, которая отчётливо отразилась на моих ранних произведениях. Этот этап я не считаю творчески мне принадлежащим. Он есть условие моего воспитания и той среды, где я вращался в первую пору моей литературной деятельности. Он (дед, — А.Б.) с трёх лет вдалбливал мне в голову старую патриархальную церковную культуру. Отроком меня таскала по всем российским монастырям бабка.» (Выделено мною, — А. Б.)
Вот такие отмашистые выражения, — вдалбливал, таскала, — словно всё творилось силком, против воли малого.
И ещё одно признание:
«Рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве у меня были очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до богохульства. И потом в творчестве моём были такие полосы».
Да все случалось: была и «грусть по небесам», были и росписи стен Страстного монастыря похабными частушками и сочинение богоборческой «Инонии», что, как сказал некий снисходительный критик, вполне объяснимо «в атмосфере безбожного бесовского шабаша», «когда повсеместно разрушались храмы, осквернялись иконы, преследовалось православное духовенство».
* * *
Искренно приняв революцию, поскольку так же искренно не принимал господствующих сословий, позже, уже не понимая происходящего в России, растерявшись и отчаявшись, забываясь во хмелю и скандаля, Есенин ещё так-сяк старался быть или казаться своим для тогдашнего ленинского правительства, сплошь инославного, люто ненавидящего Православие. Клял царский прижим и клялся в своей верности большевистскому режиму.
Небо как колокол,
Месяц – язык.
Мать моя родина,
Я большевик.
И, понося монархию, даже Ленина воспел в поэме «Гуляй-поле» (впрочем, величие вождя невольно обрело потешные, карикатурные черты, — может, и от того, что было тут некое насилие над своим творческим духом; и вообще, здесь языковое, поэтическое чутье Есенину заметно изменило и, похоже, неслучайно):
Монархия! Зловещий смрад! (...)
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришёл. (...)
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных,
— Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных. (...)
Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Но клятвы верности не помогли, — в гостинице «Англетер» Есенина убили. Но если бы убийства не случилось, то он, Бог и весть, как бы он завершил свой век, яркий, как вспышка зарницы над рязанскими полями, короткий, путаный, скачущий, бешено закусив удила. Может быть, и где-то на Соловецких островах…
Дорога была цена его худобожия, его попыток сблизиться с инославными комиссарами; дорога была цена дозволенной до поры до времени, шумной славы в стране, где правят негодяи (вспомним его же и поэму «Страна негодяев»); ценою славы стала душа, а потом жизнь.
Критик Александр Воронский, писавший о том, как русский народ любит народную, почти сказовую, искреннюю, страстную поэзию Есенина, тем не менее, вспоминает:
«На загородной даче, опившийся он (Есенин, — А. Б.) сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошел и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Всё лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.
-У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня».
Душевное омертвение Есенин выразит и в стихах:
Ты прохладой меня не мучай,
И не спрашивай, сколько мне лет,
Одержимый тяжёлой падучей,
Я душой стал, как жёлтый скелет.
Падучую болезнь русские понимали только так: бесы вошли к корежат несчастного.
Есенинская душа, прежде чем спалилась в костровых языческих страстях, в грехах и пороках (в демонском искусе), как бы прошла через несколько ступеней духовного прельщения, и они ясно выражены в его же четверостишии: «Грубым дается радость, — это жизнерадостная, язычески плотская, певучая ступень Есенина. – Нежным дается печаль, — это романтическая, платоническая ступень. – Мне ничего не надо, /Мне ничего не жаль… — это уже тупик; и хотя стихотворение и дальше продолжается, но уже не выводит читателя из холодного угла.
После таких строк обезбоженному мученику белого света самое время пойти и застрелиться или повеситься, — жизнь бессмысленна. Хотя, кажется, всё же, на самоубийство Есенин мог бы и не пойти: не дало бы совершить это так и не вытравленное до конца христианское чувство в душе, ибо самоубийство — великий грех: человек не вволе распоряжаться жизнью, дарованной Свыше. Но это лишь предположение.
«Россия, сердцу милый край,
Душа сжимается от боли...»
Величие Есенинской поэзии не только даже в её гениальности, с точки зрения народности и художественности, а в том, что он, как никто иной в нынешнем веке, так ярко и мощно показал русскую душу в её божественных взлетах и хмельных, отчаянных падениях в смердящую пропасть духа, в её омерзительных грехах и сотрясающих душу раскаяньях.
Самые пронзительные стихи Есенина — уже позднего, смертельно уставшего — душераздирающий стон по своей душе, а значит и по душе русской, теряющей божественный свет; это и плач по крестьянской (суть, христианской) жизни.
Россия! сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Читаешь воспоминания о Есенине его друзей, а так же прихлебателей, искусителей и, просто, собутыльников; читаешь письма его родных и возлюбленных, и аж мороз по коже! Не тихая, как речная заводь, светлая, березовая, лунная печаль охватывает, а — мертвящий ужас. И начинаешь понимать, что всё написанное о нём доброхотами, приукрашенное любовью к нему, — всё это лишь чудное щебетанье воробьиное, воркованье голубиное. (Хотя и взбалмошной была Айседора Дункан, но, налюбившись и намаявшись с Есениным, как горько и верно, указывая на грудь Есенина, воскликнула: «Здесь у него Бог», а показав на голову, вздохнула: «Здесь у него дьявол».) Похоже, душу Есенина — где не на живот, а на смерть билось божественное с демоническим, где часто демон властвовал, — душу эту мог постичь и описать один лишь Фёдор Достоевский. Сам Есенин не был поклонником писателя Достоевского, да и Толстым не увлекался (будучи женатым на Софье Андреевне Толстой, угнетался портретами «великого старца», нравоучителя, сурово глядящего со стен); поэт любил Николая Гоголя (да и то раннего, без его духовно-православной прозы); но тем не менее по душевному борению ближе всех к нему стоял Достоевский. Они переживали похожие внутренние муки, — муки раздвоения, но если Федор Михайлович никогда не терял из души идеал Христа и маялся больше своим духовным несовершенством, слабостью веры, то Есенин шагнул дальше, — к ереси, потом к богохульству и богоборчеству.
Но, думаю, в душе в душе раскаялся, а посему и будем, молясь за него, повторять и повторять, — никогда свет божественный полностью не покидал душу поэта.
Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилица...
И в своём завещании Есенин просит тех, кто будет с ним при последней минуте:
Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверия в благодать,
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.
(Окончание следует)














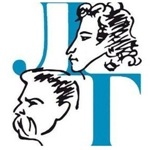











3. Тайная ложа или явная лажа? Не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет...
2. Судьба Есенина - судьба России?
1. Благодарю, но и огорчена...