https://dzen.ru/a/ZMs4gdWLSl6C_818
Гетман, сумевший добиться объединения левобережной и правобережной Украйн, где сошлись интересы России, Польши, Турции и Крыма. Здесь казацкая вольница добавляла неопределенность во всех внутренних и внешних делах этих стран. И только незаурядные личности оставили значительный след в истории казачества, России и Малороссии, добившись выбора в главные начальники войска Запорожского. Таким и был гетман Иван Самойлович (1672-1687).
«Гетман запорожского войска, сын священника, уроженец правобережной Украины. Одаренный хорошими природными способностями, получив достаточное образование, а сверх того ловкий и вкрадчивый в обращении с людьми, Самойлович обратил на себя внимание правящих слоев казачества и при Брюховецком получил место сотенного писаря…
В последние годы гетманства Брюховецкого Самойлович играл уже видную роль в деяниях казачества и успел заявить себя крепким противником назначения в Малороссию великороссийских воевод.
17 июня 1672 г. на раде в Казачьей-Дуброве Самойлович был избран гетманом. Не обошлось без содействия московского правительства. Кошевой атаман Серко открыто заявлял впоследствии, что войско называло его имя, равным образом и Дорошенко с горечью указывал , что избрание Самойловича состоялось по указанию присутствовавшего при выборах царского боярина Ромодановского»[1].
Гетман Иван Самойлович. https://avatars.mds.yandex.net/i?id=96afc11651fbe208a178d655b95f9a68_l-5292718-images-thumbs&n=13
Несмотря на такую поддержку, Москва питала недоверие к вновь избранному гетману и в качестве гарантии его верности вызвала (в марте 1673 г.) к себе двух его сыновей, которые и остались там заложниками.
Поэтому гетман уделял особое внимание укреплению за собой доверия Москвы и одновременно делал все возможное для устранения или ослабления тех влиятельных деятелей казачества, которые могли бы вредить ему в глазах московского правительства и предъявлять свои права на гетманство. И основным соперником был Петр Дорошенко (1627-1698), гетман правобережной Украйны (1665-1676).
«Служебная карьера Дорошенко началась при Богдане Хмельницком, который заметил его выдающиеся способности и обратил на него внимание, назначив его в 1650 г. одним из предводителей в войне с Молдавией.
После смерти Хмельницкого проявил себя преданным сторонником политических стремлений Выговского, помогая ему в борьбе с русскими войсками»[2], которые имели решающие значение для всей последующей деятельности Дорошенко.
«Сам Иван Выговский (? – 1664) был малороссийским гетманом (1657-1659), происходивший из шляхтичей православного вероисповедания. Когда попал в плен к татарам, Богдан Хмельницкий выменял его на лошадь и сделал при себе писарем. Через два года Выговский был уже генеральным писарем малороссийского войска и имел больше влияние на него. После смерти Богдана был провозглашен гетманом.
Казалось бы, после пленения, татары и их союзники турки должны были стать личными врагами Выговского, но нет, не стали. Напротив, он вступил в переговоры с крымским ханом и польским королем Казимиром, который обещал сделать его удельным князем Малороссии, «если он отложится от Москвы. После договоров с польскими комиссарами и с крымским ханом (1658), начал действовать открыто: он распустил слух, что царь хочет преобразовать запорожское войско, поднял казаков и пошел на Полтаву, которая была взята и предана огню; ту же участь потерпели и другие верные Москве города – Лубны, Гадяч, Глухов и др. В начале 1659 г. Выговский взял Миргород и с татарами двинулся к Конотопу»[3].
Дальнейшие поражения Выговского от русских войск привели к возмущению казаков, которые избрали гетманом Юрия Хмельницкого. А Выговский был взят поляками под стражу, предан военному суду, по приговору которого был расстрелян.
По Бучацкому договору от 7 октября 1672 года с турками поляки отказались от своих прав на Украйну, что явилось для московского правительства поводом для притязания на правый берег Днепра. Для этого они уполномочили Самойловича провести переговоры с Дорошенко о добровольном объединении обеих берегов Днепра. Опасаясь конкуренции со стороны Дорошенко, Самойлович пытался убедить московскую власть о бесполезности мирных переговоров.
Посланный Самойловичем в мае 1673 г. отряд был разбит татарами, выступившими на стороне Дорошенко. В ноябре 1673 г. царь приказал Самойловичу и царскому боярину Ромодановскому снова идти против Дорошенко. Они выступили в январе 1674 г. с 80 тыс. войском, взяв целый ряд правобережных городов, включая Крылов, Черкасы, Канев, а народ был приведен к присяге московскому царю. 17 марта Рада назначила выбор гетмана, которым стал Самойлович – уже как гетман обеих сторон Днепра. Несмотря на поражение, Дорошенко только в 1676 г. сдался и сложил свое гетманское звание.
Положение населения правобережной Украйны оставалось тяжелейшим из-за постоянных набегов турок, татар и поляков, поэтому не прекращалась эмиграция жителей на левобережье, где было относительно спокойно и безопасно.
Самойлович поощрял такую эмиграцию, одновременно привлекал переселившихся старшин на свою сторону обещая покровительство и заботу об их благополучии, а в случае неповиновения – наказанием царскими слугами.
«В начале 1679 г. Самойлович приступил к продиктованному московским правительством мероприятию, имевшего целью раз навсегда положить конец смутам и войнам из-за спорной территории правобережной Украйны. Решено было всех жителей переселить на левый берег Днепра, города и поселки выжечь и опустошенную таким образом землю предоставить туркам. С этой целью гетман послал в феврале 1679 г. своего сына Семёна, который и выполнил эту задачу; в награду за это гетман получил похвальную грамоту от царя и дары (шёлковые материи, собольи и горностаевые меха и оружие)»[4].
Переговоры о мире с турками тянулись медленно, с одной стороны вследствие чрезмерных притязаний турок, а с другой – из-за предложения поляков заключить союз против турок. Возобладало мнение Самойловича, что «мир с бусурманом прибыльнее будет союза». В 1681 г. был заключен Бахчисарайский мир, радостно встреченный Самойловичем и пограничным населением, по которому Османская империя признала воссоединение Левобережной Украйны и Киева с округой с Русским государством.
Перешедшие с правобережной Украйны переселенцы, не получив от московского правительства никакого «довольства», крайне обнищавшие и принужденные скитаться «межи дворы», пытались возвращаться на старое местожительство, куда их не отпускали.
Самойлович неоднократно представлял это дело московскому правительству, прося отвести землю для поселенцев. Земля была отведена только в 1682 г.
Вопреки условию Бахчисарайского договора о том, что правобережная Украйна должна оставаться незаселенной, молдавский господарь, получивший от турок эту землю, рассылал универсалы, приглашавшие заселять порожние земли. Универсалы распространялись среди левобережных жителей и производили волнения. Самойловичу приходилось жаловаться в Москву и требовать расправы с разными смутьянами, сеящими в народе ложные толки и разжигавшие ненависть против гетмана и московского правительства. Поляки, получившие в 1683 г. перевес над турками, стали засылать агентов и разглашать слухи, будто Самойлович хочет уничтожить казацкое войско: народ потянулся за Днепр, что заставило Самойловича издать универсал с опровержением слухов и предупредить московское правительство о коварстве поляков.
Когда московское правительство получило от поляков предложение присоединиться к священному союзу против турок, Самойлович резко возражал, зная вероломство поляков.
«Для России международное движение против мусульман имело большое значение. Когда император австрийский Леопольд и польский король Ян Собесский заключили между собою союз против Турции, то решили пригласить к участию в этой войне и московских царей. Собесский писал царям Ивану и Петру, что настало удобное время для изгнания турок из Европы. Переговоры об этом мире начались в январе 1684 г., в пограничном селе Андрусове. Тридцать девять раз съезжались уполномоченные и ничего не решили. Поляки не уступали Киева, – русские не соглашались дать помощь против турок.
В начале 1686 г., в Москву приехали знатные послы королевские, воевода познанский Гримультовский, и канцлер литовский Огинский. Семь недель продолжались переговоры, наконец 21 апреля заключен был вечный мир. Польша уступила навсегда России Киев, а великие государи обязались разорвать мир с султаном и ханом и сделать нападение на Крым. Кроме того, было постановлено, что Россия в вознаграждение за Киев должна заплатить Польше 146 тысяч рублей.
Царевна Софья с радостью возвестила народу: когда еще при наших предках Россия не заключала столь прибыльного и славного мира, как ныне и пр. В конце извещения было сказано, что: «преименитая держава Российского царства гремит славою во все концы мира»»[5].
Мнение Самойловича было проигнорировано, Россия присоединилась к союзу. В Москве было решено в ближайшем будущем выступить в поход на Крым. Сторонниками наступления на Крым были князь Василий Васильевич Голицын и генерал Патрик Гордон. Последний считал, что войскам будет сопутствовать полный успех.
Весной 1687 г. Самойлович получил приказание выступить со всем войском в поход. Гетман собрал полки в Полтаве и в мае во главе 50 тыс. казацкого войска соединился с великороссийским отрядом князя В.В. Голицына. «Своего раздражения гетман не скрывал даже в походе: «неразсудная эта московская совсем лишила меня здоровья. Чертовскую тягость взяла на себя Москва!»»[6].
Очевидно, такое настроение гетмана невозможно было скрыть от руководителей похода.
В 1687 г. русские войска даже не дошли до Перекопа, и войскам пришлось бороться не только с татарами, но и со страшной жарой, безводьем, невозможностью в степи прокормить людей и лошадей, а также неуверенными действиями полководца князя В.В. Голицына. Распространились слухи, что поджоги степей и мостов через реки было делом рук казаков, а не татар. Поход закончился неудачей. Виновником посчитали гетмана. Нашлись и недоброжелатели, казацкие старшины, недовольные гетманом, а Голицын свел с Самойловичем личные счеты.
7 июля 1687 г. генеральные старшины и полковники подали кн. Голицыну донос на гетмана, обвиняя его в измене царю. Донос был немедленно отправлен в Москву. 22 июля прискакал гонец из Москвы с приказом Голицыну арестовать Самойловича, лишить звания, а затем избрать нового гетмана, которым и стал Мазепа.
При конфискации имущества Самойловича Голицын успел присвоить себе некоторые драгоценные вещи, принадлежавшие павшему гетману. Из архивных документов видно, что Голицын заставил нового гетмана, Мазепу, подарить ему 10 тысяч рублей[7].
Однако и сам Голицын был обвинен в самоуправстве и в нерадении во время крымского похода, был лишен чести, боярства и имущества и сослан с семьей в Каргополь. «Позже его ложно обвинили в измене, в том, что он взял с крымского хана деньги. Вследствие этого извета его сослали в Пустозерск, а затем в с. Колмогоры»[8].
Арестованный гетман был отправлен в Орел, оттуда в Нижний Новгород, в сентябре его отправили в слободу Вятской губернии, а с открытием зимнего пути отвезли в Тобольск, где он и умер в 1690 г.
Разительная разница с Дорошенко, который в 1677 г. был отправлен в Москву, где «его приняли с почетом и уважением, оценив по достоинству крупную личность своего бывшего противника. От 1679 до 1682 г. он жил в Вятке и занимал должность воеводы, а последние годы провел в пожалованном ему селе Ярополче Волоколамского уезда, где и умер на 71 году от рождения»[9].
Отношение Дорошенко к русским можно оценить по его действиям, когда после избрания гетманом правобережной Украйны он решил овладеть левобережной Украйной, «хотя бы для этого все население её пришлось отдать татарам. В вооруженном противостоянии использовал против России помощь татар, а затем турок»[10].
В данной истории пострадали интересы России, когда преданный нашей стране Самойлович по навету своих противников и князя Голицына, возложившего вину на гетмана за неудачу крымского похода, был отрешен от власти и отправлен в ссылку.
Выбор гетманом Мазепы привел к еще более тяжелым последствиям – поставил под сомнение исход вооруженного противостояния с Швецией и к потери преданных России людей Малороссии, казненных предателем. И здесь назначение Мазепы осуществилось не без влияния князя Голицына с его неистребимым корыстолюбием.
Не нашлось в России в это время государственных людей, способных разобраться с гетманами по их благонадежности и пользы для России, а не по своей заинтересованности в личной выгоде.
[1] Русский биографический словарь. Сабанеев – Смыслов. Москва: «АСПЕКТ ПРЕСС», 1999. Репринтное воспроизведение. Том 18. С. 157-158.
[2] Русский биографический словарь. Дабелов – Дядьковский. Москва: «АСПЕКТ ПРЕСС», 1999. Репринтное воспроизведение. Том 6. С. 600.
[3] Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон. Биографии. Москва: Научное издательство «БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1993. Том 3. С. 526.
[4] Русский биографический словарь. Сабанеев – Смыслов. Москва: «АСПЕКТ ПРЕСС», 1999. Репринтное воспроизведение. Том 18. С. 157-160.
[5] Брикнер А.Г. История Петра Великого. Москва: «ТЕРРА» – «TERRA». Репринтное воспроизведение с издания А.С. Суворина 1882 г. С. 72.
[6] Русский биографический словарь. Сабанеев – Смыслов. Москва: «АСПЕКТ ПРЕСС», 1999. Репринтное воспроизведение. Том 18. С. 161.
[7] Брикнер А.Г. История Петра Великого. Москва: «ТЕРРА» – «TERRA». Репринтное воспроизведение с издания А.С. Суворина 1882 г. С. 76.
[8] Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон. Биографии. Москва: Научное издательство «БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 1993. Том. 4. С. 183.
[9] Русский биографический словарь. Дабелов – Дядьковский. Москва: «АСПЕКТ ПРЕСС», 1996. Репринтное воспроизведение. Том 6. С. 603.
[10] Русский биографический словарь. Сабанеев – Смыслов. Москва: «АСПЕКТ ПРЕСС», 1999. Репринтное воспроизведение. Том 18. С. 159.














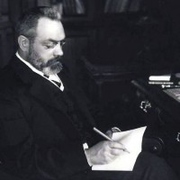

.jpg)




