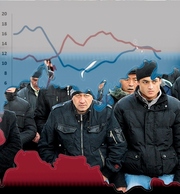Летом население Косы увеличивается втрое-вчетверо, а когда и больше. Его структура определяется отношениями между тремя группами: потомственные местные жители, приезжающие на лето дачники и отдыхающие. Последние неоднородны. Основная их масса давно накатала сюда дорогу, они останавливаются у одной и той же хозяйки каждый год, стали уже почти родственниками, привозят подарки и делятся семейными проблемами. И есть дикари. Как правило, это молодые люди, которых авантюрный зуд и жажда экстрима заставляют отыскать в кладовке отцовскую палатку, пожеванную мышами, латаный рюкзак, одолжить у приятелей советский надувной матрац, обязательно дырявый, запастись консервами, прихватить с собой романтическую дурочку (она очень скоро поумнеет) и пуститься на поиски приключений. На второй день они натыкаются на сотрудников природоохранного ведомства, которые призваны напоминать, что все мы являемся членами социума.
Дачники — особая порода. Это солидные люди средних лет, большей частью интеллигенция, но с крестьянскими генами и марксистским сознанием. Жажда собственности вынуждает их забывать нагорную проповедь и находить жизненную
опору в «моём».
Еще в далекие семидесятые прошлого столетия Коса жила почти так же, как в XIX веке. Две деревни — Васильевка и Покровские хутора — в десяти километрах друг от друга на лимане и село Покровка на берегу Егорлыцкого залива. В Покровке — церковь. Как и было положено, во времена исторического материализма из нее сделали сельский клуб. После очередных танцев церковка сгорела. Видать, уж очень силён был накал бесовщины.
Покровка — административный центр. Никаких предприятий, кроме рыбколхоза, и того правление — в Васильевке.
Связь с внешним миром сложная. Жизнь, как в подводном царстве. Внуки аборигенов стали бежать в иные города и веси. Старики не вечны, и стали наследники продавать родовые поместья. Тому лет тридцать можно было купить хатынку с землей чуть дороже холодильника — от двухсот до пятисот советских рублей. Да и потом до начала девяностых цены росли очень медленно. Советские интеллигенты с комбедовской закваской, оскорбленные четырьмя сотками в дачных кооперативах, обрели реальную возможность стать владельцами загородной фазенды. В первые годы незалежности количество дачников резко возросло. Их стало едва ли не больше, чем коренных, и на кровно заработанные и на шальные развернулось строительство апартаментов на зависть туземцам. Более или менее убогие архитектурные прожекты обязательно вступали в противоречие с материальными возможностями. Самым трудоемким и дорогим оказалась доставка строительных материалов. Тем не менее, преодолевая все трудности, новые землевладельцы напрягали мышцы, кошельки и фантазию, возводя одно- и двухэтажные, с мансардами и без, и простые параллелепипеды из камня и бетона, и с претензией. Все стили — от мавританского до супремата — нашли здесь свое воплощение.
Однако очень скоро легкомысленный дилетантизм принёс плоды. В материалистическом сознании собственников никак не помещалась мысль о том, что во всё, сделанное человеком, вложена его душа. Так, машины имеют свой норов, и даже топорище, сделанное с любовью, льнёт к руке, и топор, как будто бы сам и рубит и тешет. Дом, как любое творение человека, нуждается в общении, в нем нужно жить, а за восемь месяцев без хозяина он опускается, как бомж. Начинает сыпаться штукатурка, отклеиваются обои, от осадки фундамента появляются трещины в стенах, земельный участок дает приют подозрительным растениям. Да и новая генерация со скепсисом смотрит на труды предков. По глупости их пока влекут Парижы, Нью-Йорки, Лондоны, на худой конец — Киев. И зарастают травой недостроенные корты, бассейны, не знавшие воды, покрываются абстрактной графикой трещин, в конюшнях живут грызуны, пауки раскидывают сети в углах гостиных, залов, бильярдных, столовых, спален, детских, кабинетов...
Аборигены с мудрым спокойствием всё это предвидели, наблюдали и продолжают наблюдать. Опыт семи поколений бьётся в их жилах с частотой шестьдесят ударов в минуту, и давление не превышает пределов возрастной нормы.
Оседлое население с исторической памятью появилось на Косе в двадцатые годы XIX века. До сих пор здесь живут Бородины и Книги. Предание говорит, что Бородины — потомки солдат-героев Бородинского сражения, которым пожаловали эти земли, а Книги — это ссыльные грамотные крестьяне или клирики, которые, начитавшись, много стали понимать и начинали качать права. «Грамотных» у нас никогда не любили. Так награжденные и наказанные получили каждый свое — землю. Но какую! Песок и два десятка озер с соленой водой, редкие ольховые рощицы там, где пресная вода выходила на поверхность, и заросли акаций. Строили оригинально: забивали в песок в два ряда колья из акаций, обмазывали их раствором из глины, которую возили за двадцать вёрст, сена и коровьего навоза и засыпали внутрь чего ни попадя: сухой строительный мусор, камыш, водоросли и пр. Получались стены. Они хорошо держали температуру.
Крышу крыли камышом, и огороды огораживали тем же камышом. Так постепенно зарождалось нехитрое крестьянское хозяйство — корова-две, птица, овцы, конечно, собаки и кошки. Кормились еще с огорода и моря. Можно себе представить, сколько труда нужно было вложить в песок, чтобы получился огород. Выручало море.
Когда говорят о проституции, иногда то ли стыдливо, то ли иронично заменяют это слово эвфемизмом «древнейшая профессия». Трудно здесь выделить долю иронии или желания соблюсти приличия, но от частого повторения и то и другое как-то утратилось, и нередко употребляющий эвфемизм полагает, что это действительно так. Думаю, древнейшая профессия — это охотники и рыбаки. Промысел трудный, опасный и требующий не только глубокого знания природы, но и чувствования её. Рыбак читает ветер, воду, облака, небо, солнце и луну. В уме ему нужно сложить направление и силу ветра, цвет, вкус и запах воды, поведение рачков, креветок, чаек, бакланов, высоту и качество облаков, цвет неба и солнца на закате и восходе, фазы луны, помнить погоду в это время года и в этот день год, два, три и больше лет назад и решить, где, как, когда и какую рыбу ему ловить.
На лимане промышляли судака, леща, сазана, рыбца; в море — в зависимости от сезона. В мае-июне был ход осетровых.
В трехстах-пятистах метрах от берега ладили ставники — хитроумные ловушки из сетей, куда рыба заходила, но выйти не могла. Немного позже появлялась скумбрия, во второй половине августа — кефаль. Три зимних месяца промышляли белугу. В негнущихся брезентовых робах, на шестиметровых плоскодонных просмоленных баркасах рыбаки уходили на веслах далеко в штормовое море и, если повезет, возвращались, а если вдвойне, — то с рыбкой в несколько центнеров весом и тремя-четырьмя ведрами черной икры. Один старожил рассказывал, будто бы икру выбрасывали, только вряд ли. Трудно вообразить: темное низкое небо, хаос волн, мороз, ветер, корка льда на баркасе, на веслах, на робе и сопротивляющееся полутонное чудовище — и только руки, смекалка и мужество. Несколько лет такой работы — и руки грубели настолько, что пальцы не сгибались в кулак. Дрались поэтому открытой ладонью, но ладонь эта была, как доска, — сплошная мозоль, наросты и шрамы. Рыбу солили, коптили, вялили, возили продавать в Очаков и Одессу. Так жили десятилетиями. Советская власть почти не наложила отпечатка на эту жизнь, разве что только дом в Покровке, где до недавнего времени была библиотека, до сих пор называют «домом раскулаченных».
«Халатами» жителей Косы назвали одесситы. Местная почва давала и до сих пор даёт обильные урожаи клубники. Поселковый совет договорился с Аэрофлотом, и в глухие брежневские времена покровчане арендовали вертолет, чтобы вывозить клубнику в Одессу. В засушливые лета озеро в центре Покровки у церкви высыхало, образуя идеальную посадочную площадку. Десяток тёток с корзинами клубники грузились в вертолет и через тридцать минут высаживались в одесском аэропорту, откуда еще полчаса добирались до Привоза.
Как-то в покровский сельмаг завезли массу вельветовых халатов с пугающим черным орнаментом по оранжевому полю. Каждая хозяйка набрала халатов впрок. Собираясь на рынок в Одессу, торговки клубникой один халат надевали на себя, а второй, чтобы поберечь первый, повязывали как передник.
Наблюдательные одесситы сразу отметили униформу покровских баб и окрестили их «халатами». Уже давно не выращивают на Косе клубнику в таких объемах, уже нечасто в небе над Косой можно увидеть вертолет, уже сгнили многие халаты, хотя их останки можно и сегодня встретить в качестве половых тряпок и ветоши, а прозвище живёт.
Халаты не любят тех, кто приехал и осел здесь. В отношении нет враждебности. Они пользуются знаниями, умениями и опытом переселенцев, но те для них всё равно чужаки.
Халаты видят большой мир телевизора и чувствуют себя ущербными — у пришлых за плечами красивая жизнь в больших городах и заграницах. Туземцы не понимают добровольного изгнания и восторженного отношения к Косе. Это их родная земля, скудная, забытая людьми и Богом.
В конце семидесятых отставной подполковник Владимир Ильич Ещенко купил в Покровке домик и стал заниматься делом, с точки зрения аборигенов, диким — разводить голубей. Потомственный одессит, Ильич Второй, как он себя называл (Брежнев — третий по его табели), голубями увлекался еще в детстве, был их знатоком и вернулся к этому хобби на пенсии. Еще более дико смотрели халаты на концертный рояль, который выгружали из машины шесть здоровенных мужиков и на лямках затаскивали в дом. Прошло некоторое время, страсти улеглись, Ильича признали как телемастера — военный связист, он хорошо разбирался в телевизорах. Как-то к нему подошел директор школы и спросил, сможет ли он заменить ушедшую в декрет математичку, пока из облоно не пришлют другую. Для развлечения Ещенко согласился. Покровская десятилетка — это пять-восемь человек в каждом классе, то есть идеальные условия для обучения. Ильич, последние десять лет службы преподававший в Житомирском военном училище высшую математику, придумывал для детей математические игры, заставлял искать неординарные методы решения задач из учебников, увлек детей математической логикой и через два месяца стал любимым учителем. К урокам он никогда не готовился и не открывал методических рекомендаций. А в облоно не торопились.
По истечении двух месяцев с плановой проверкой приехала методист из районо, побывала на уроке Ильича и ахнула — он же не так учит детей. Владимир Ильич резонно возразил: есть программа, проведите контрольную работу и убедитесь, соответствуют ли знания программе — важен ведь результат. Но методиста испугало то, что Ильич не натаскивал детей, а учил их думать. Дети только начали постигать искусство самостоятельного мышления и получать от этого удовольствие, что и испугало методиста. Замену нашли очень быстро, и это несказанно огорчило детей. Они еще долго ходили к Ильичу, но он никогда не принимал гостей в доме, и все беседы проходили во дворе. Последняя странность объяснялась тем, что у Ильича, несмотря на то, что он бывший военный, дома был страшный беспорядок. У окна на письменном столе валялись радиодетали, шасси телевизоров и приемников, паяльники, канифоль, припой и принципиальные схемы устройств. Посередине большой комнаты стоял рояль, и на нем внавал лежали книги, кроме тех, что хранились в шкафах. Здесь можно было найти труды по математике, астрономии, физике твердого тела, жидкостей и газов, по астрофизике, электро- и радиотехнике, но также историю, философию, русскую классическую литературу и поэзию. Он любил и многое помнил наизусть из Пушкина, Есенина, Вийона, Лорки и, как ни странно, Рильке. Здесь же на рояле отдельно лежала стопка альбомов с нотами.
Ильич любил ходить в гости. Приглашали его приятели из дачников и обязательно с гитарой. Пел Ильич только для тех, кого уважал. «Угощая» им кого-нибудь из новеньких, хозяин рассказывал о нём легенды, но гости сначала снисходительно относились к Ильичу, ведь рассказчики склонны к гиперболам. Но стоило Ильичу взять первые аккорды и запеть, снисходительность уступала место удивлению, а затем восхищению. Пел он превосходно, без «харьковщины», как говаривал Бернес. Репертуар состоял исключительно из русских романсов. Еще в бытность курсантом Одесского военного училища Ильич брал платные уроки вокала и игры на гитаре у преподавателей Одесской консерватории. Он хотел петь романсы и научился этому. Даже квакши умолкали, когда в отсыревшем вечере начинал звучать мягкий тенор Ильича и душевный перезвон гитары.
Постепенно Ильич приобрел уважение и стал авторитетом у халатов. К нему ходили советоваться по всякому техническому, медицинскому и даже сельскохозяйственному поводу и жаловаться на загулявших мужей или сыновей. Этих Ильич-психолог кого распекал, кого увлекал чем-либо, и сбившийся с нарезки восстанавливался. Его слушались. Авторитет Ещенко взлетел, когда почта получила на его имя письмо из Великобритании от Королевского географического общества — увесистый конверт с замысловатой маркой. Но скоро к таким конвертам привыкли. Ильич, оказывается, был известен и пользовался авторитетом ещё и у голубятников мира и даже публиковал статьи в английском журнале голубятников.
Где-то в Житомире у него была жена и дочь. Дамочка на двадцать лет была моложе Ильича и замуж, видимо, выходила по расчёту — за советского офицера, а не за сельского жителя и голубятника. Она пару раз приезжала на лето в Покровку, но отсутствие светской жизни быстро доканывало её. Косу она не понимала и через две недели, забрав дочку, убывала в бестолковость житомирского муравейника.
Ильич умер на третьем году нового тысячелетия от сердечной недостаточности в Очаковской больнице. Никто из халатов на его похороны не приехал.



















.jpg)