 Хамзатович Давлетшин.jpg)
Наверное, я не ошибусь, если скажу, что одним из ярких (но спорных) политических идеологов в нашей стране является Александр Гельевич Дугин, лидер одного из направлений т.н. «евразийства» (или, скорее, неоевразийства). Многим эта фигура не нравится. Его упрекают в фашистских симпатиях, так как в числе авторитетов Дугин и дугинисты упоминают разных сомнительных мыслителей, например, Юлиуса Эволу, идеолога неофашизма, или деятелей вроде Корнелиу Кодряну, лидера румынской «Железной гвардии» (организации фашистского толка). Но меня заинтересовало другое.
Недавно я прослушал беседу А.Г. Дугина под названием «Политическая философия славянофилов». Беседа эта происходила, как я понял, в январе 2021 года. Эта беседа мне очень не понравилась. Даже на мой дилетантский взгляд, суждения Дугина о славянофилах более чем поверхностны. Например, он, хоть и сказал о том, что славянофилы выступали против крепостного права, но не обмолвился ни словом о том, что они приняли активнейшее участие в проведении крестьянской реформы, особенно Юрий Федорович Самарин. Т.е. они не только высказывали правильные идеи, но и занимались кропотливой деятельностью, стараясь их как-то воплотить. Ведь на самом деле мало было просто освободить крестьян от крепостной неволи. Нужно еще было решить земельный вопрос.
В этой же беседе А. Дугин называет славянофилов консервативными революционерами и заявляет, что тезис «революционного консерватизма» выдвинул именно Самарин. Как я понял из беседы, славянофилов он считает своими предшественниками, и проводит параллели между ними и «евразийцами» (в смысле дугинистами).
Погуглив, я наткнулся на его статью аж 1991 года «Консервативная Революция (краткая история идеологий Третьего пути)». В качестве практиков, воплотивших идеологию Третьего пути, Дугин указывает на Муссолини, Кодряну и др. Особенно интересны его рассуждения об эсэсовцах: «…в рамках национал-социалистического режима существовал некоторый интеллектуальный оазис, в котором концепции Консервативной Революции продолжали развиваться и исследоваться без каких-либо искажений, неизбежных в других более массовых проявлениях режима. Мы имеем в виду организацию Ваффен-СС в ее интеллектуально-научном, а не военно-политическом аспекте. Ваффен-СС и особенно научный сектор этой организации "Аненербе", "Наследие Предков", разрабатывали ортодоксальные консервативно-революционные проекты. В частности, вместо узконационального германизма внешней пропаганды, СС стояло за единую Европу, разделенную на этнические регионы с нео-феодальными центрами, и при этом этническим немцам никакой особой роли не отводилось. Сама эта организация была международной, и в нее входили даже представители "небелых" народов — азиатские и ближневосточные мусульмане, тибетцы, тюрки, арабы и т.д. Геополитические проекты СС ориентировались не столько на экономические, сколько на сакрально географические реальности, и страны традиционного Востока представляли собой здесь наибольший интерес (вспомним о многочисленных экспедициях СС в Гималаи, Тибет, Индию и т.д.). СС воспроизводило определенные стороны средневекового духовного рыцарского Ордена с типичными идеалами преодоления плоти, нестяжательства, дисциплины, медитативной практики».
В этой же статье он упоминает Самарина как одного из теоретиков «Третьего пути»: «Более ясно концепция Третьего Пути формируется у русских славянофилов. Сам термин “Революционный Консерватизм” впервые употребил Ю.Самарин в 1875 году. Такое определение охотно использовал и Ф.Достоевский для характеристики своих собственных взглядов. В принципе почти все русские славянофилы, вплоть до Леонтьева и Данилевского, прекрасно вписываются в рамки Третьего Пути, так как все они почти в равной степени противостояли как левым западникам, так и постпетровским правым, за что, кстати, и подвергались гонениям со стороны тогдашней Системы. Для русских “консервативных революционеров” барьером, отделяющим их собственный идеал от кризисного и недостаточного (хотя и правого, консервативного) режима, были Петровские реформы. Но надо все же заметить, что анти-петровские тенденции русских славянофилов интеллектуально смогли оформиться только после Французской Революции, а не раньше».
С тех пор прошло больше трех десятков лет. Я не знаю, что сейчас Дугин думает об эсэсовцах, но вот Самарин у Александра Гельевича и его последователей по-прежнему числится в консервативных революционерах, что он и продемонстрировал в упомянутой относительно недавней беседе.
Однако цитат самого Самарина о консервативной революции Дугин не приводит. Что ж, восполним этот пробел. Собственно, словосочетания «революционный консерватизм» в трудах Самарина не содержится. Однако в его сочинениях можно найти такое название – «Революционный консерватизм. Письмо Р. Фадееву по поводу его книги "Русское общество в настоящем и будущем (чем нам быть)"». Именно это письмо, написанное как раз в 1875 году, и имеет в виду А. Дугин. Из примечаний к письму можно узнать его первое издание – Самарин Ю.Ф., Дмитриев Ф.М. Революционный консерватизм. Книга Р. Фадеева «Русское общество в настоящем и будущем (чем нам быть)» (Berlin, 1875). Т.е., даже из названия издания можно было заподозрить, что «революционный консерватизм» – это и есть обсуждаемая Самариным книга Фадеева, а вовсе не идея самого Самарина. Чтение этого письма проливает свет на то, почему такое название. Практически в самом начале, Самарин пишет следующее: «То, в чем Вы видите наше спасение и ничем не заменимое условие нормального развития нашей общественности, пугает меня как программа исподволь подготовляемой революции, притом революции худшего свойства, вызванной каким-то, на мой взгляд, незаслуженным недоверием к обществу и к учреждениям, которыми оно наиболее дорожит.
Я позволил себе краткости ради употребить выражение резкое и в то же время довольно неопределенное, а потому требующее немедленного объяснения: конечно, ни Вы, ни я не считаем испорченной мостовой, оборванных блузников, растрепанных женщин и красных знамен существенными принадлежностями всякой революции и не отождествляем её не только с уличным бунтом, но даже с более широким понятием о беззаконном и насильственном посягательстве на существующий порядок вещей. Не переставая быть тем, что она есть в существе своем, она может исходить как сверху так и снизу и, в первом случае, оставаться в пределах формальной законности. По моим понятиям, революция есть не иное что как рационализм в действии, иначе: формально правильный силлогизм, обращенный в стенобитное орудие против свободы живого быта».
Т.е., как я надеюсь, уже понял читатель, Самарин говорит о революции в смысле, совершенно противоположном тому, которое вкладывает в это слово А. Дугин. Под революцией он понимает именно разрушение, а вовсе не созидание. И причем он указывает, что такая революция может происходить не только в том виде, как это было во Франции. Т.е. программой революции он назвал как раз программу своего оппонента, ген. Фадеева.
Чтобы читателю стало понятнее, о чем речь, я позволю кое-что прояснить (хотя лучше, конечно, читателю самому прочесть письмо Юрия Федоровича). Генерал Р. Фадеев, к которому обращается Самарин, был вполне достойным и выдающимся человеком. Однако в своей книге он высказал идеи, которые вызвали резкое (и справедливое) неприятие Самарина.
Основную идею Фадеева он сформулировал так: «…для спасения русского общества от угрожающей ему анархии нужно прежде всего сплотить разбитое дворянство, поставив его во главе общества как сословие властное и наделить его новыми правами, соответствующими потребностям времени. Дойдя до этого заключения, Вы, вероятно, на минуту призадумались – пред Вами открылись два пути. Можно было для составления потребного капитала дворянских привилегий урезать кое-что от полноты правительственных прав; но Вы убедились, что это было бы несогласно с национальным характером и историческим призванием нашего единодержавия как понимает его Россия».
Можно было также сколотить этот капитал насчет других низших сословий, или попросту обобрать их, например: отняв у крестьян и передав дворянам выбор волостных начальников, лишив учащуюся молодежь недворянского происхождения права на казенные стипендии, устранив земские собрания в выборе мировых судей и т.д.
Этот путь был глаже, и Вы, естественно, предпочли его. Таким образом, из двух посылок и заключения сложилось нечто вполне законченное, пленяющее своею гармонической стройностью».
Вот это Самарин и назвал революцией. Конечно, те же коммунисты с таким пониманием революции не согласятся, они такие явления называют «реакцией», но написано Самариным было именно это. Больше ни о какой революции в письме Самарина не говорится. Почему название «революционный консерватизм»? – Как следует из того же письма, ген. Фадеев выставляет дворянство, за расширение власти которого он выступает, как консервативную силу, в отличие от крестьянства, представляющего собою силу стихийную, о чем пишет тот же Самарин: «Итак, Вы просто вывезли из западноевропейского исторического музея готовую картину и перед тем, как повесить ее в Петербурге, Вы наклеили на нее два ярлыка. Под верхним, консервативным слоем Вы написали «дворянство», под нижним, стихийным – «простонародье» и для окончательного вразумления публики не упустили прибавить: «если на западе прочность государственного общественного устоя зависит вполне от крепкой связи культурного слоя, как, несомненно, доказывает новая история, то это непременное условие существует еще в большей мере для нас»».
Т.е. революционным консерватизмом (правильно или нет, это другой вопрос) Самарин назвал как раз программу своего оппонента, и против этого «консерватизма» (или псевдоконсерватизма) великий мыслитель довольно жёстко в своем письме выступил.
И, кстати, опасения Самарина были небезосновательны. Книга Фадеева имела определённый успех, о чём Самарин также сообщает в своём письме генералу: «По слухам, доходящим из Петербурга, за программу, изложенную в Вашей книге, идёт теперь сильное течение в официальных кругах; уверяют даже, что в будущем, судя по нынешнему расположению лиц, представляющих будущее, успех ее почти обеспечен и что даже ныне или завтра он весьма вероятен».
Также, почти в самом конце, он пишет: «Неисправимый славянофил, я все-таки верю, что Россия, уйдя внутрь себя, оттерпится и на сей раз и не умрёт под ножом; но когда она очнётся, ощупает себя и станет на ноги, найдёт ли она при себе прежнюю свою веру в правительство, в крепость его слова, в твердость его намерений, в прочность и надежность его творений? – вот, мне кажется, о чем следовало бы подумать прежде, чем браться за лом».
Если читатель пожелает, он может сам прочитать письмо Ю. Самарина и ответы на него Р. Фадеева, это довольно интересно, но я думаю, приведённых цитат вполне достаточно, чтобы понять, что никакого революционного консерватизма как славянофильской программы, Самарин вовсе не формулировал. Выходит, что Дугин, исходя из названия книги этого мыслителя, попросту приписал славянофилам нечто другое, близкое ему.
Тимур (Сергий) Давлетшин, православный публицист













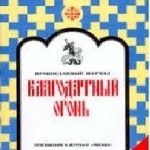
 Хамзатович Давлетшин кв.jpg)










1.