
«А всё-таки я счастлив, я всегда писал, что думал, а не то, что велели» (Л.Н. Гумилёв)
Лев Николаевич Гумилёв родился 1 октября 1912 года в семье двух поэтов – Николая Степановича Гумилёва и Анны Андреевны Ахматовой в городе Царское Село. С младенческого возраста он был отдан на попечение бабушке – Анне Ивановне Гумилёвой, жившей в небольшом имении в Тверской губернии. С родителями мальчик виделся очень редко, отец находился в постоянных разъездах (с 1914 г. – на войне), мать была погружена в главное дело своей жизни – поэзию. Вскоре семья распалась, и маленький Лев остался жить с бабушкой, о которой навсегда сохранил самые тёплые воспоминания – добрейшей души человек, она, как могла, заменила ему родителей.
В 1921 году Николай Гумилёв был обвинён в контрреволюционном заговоре и расстрелян…
В 1929 году, в возрасте семнадцати лет, Лев переезжает к матери в Ленинград для того, чтобы продолжить учебу. Анна Ахматова живет в это время на квартире у своего третьего мужа, профессора искусствоведения Пунина. Хозяин встречает его неласково, но оставляет. Спит Лев на сундуке, в неотапливаемом коридоре. Пунин открыто даёт понять, что новый жилец – семье в тягость, что он «не может кормить весь Ленинград». Но юноше деваться некуда, приходится терпеть.
В 1930 году Лев Гумилёв подаёт документы в Герценовский институт, но ему отказывают в поступлении из-за дворянского происхождения. Он устраивается рабочим в экспедицию и уезжает в Сибирь. Три года Гумилёв работает в различных экспедициях на низших должностях. В перерывах живет в Ленинграде по квартирам у знакомых. Иногда ему позволяют обедать у Пуниных. В 1934 году ему, наконец, удаётся поступить в университет на исторический факультет. Лев счастлив! Наконец-то он может заняться своим любимым делом – историей.
Но вскоре судьба наносит ему первый серьезный удар. В августе 1935 года его арестовывают по доносу. Как позже вспоминал Гумилёв, после убийства Кирова в Ленинграде «началась какая-то фантасмагория подозрительности, доносов, клеветы и даже (не боюсь этого слова) провокаций». Всем известно, что он сын царского офицера, монархиста и «контрреволюционера». В ходе расследования выясняется, что за студентом Гумилёвым ничего нет (в 35-м году еще можно было оправдаться), и его выпускают уже в ноябре. Однако из университета на всякий случай выгоняют. «В ту зиму я очень бедствовал, даже голодал», – вспоминал Лев Николаевич.
Только в конце 36-го года, благодаря помощи ректора университета Лазуркина (сказавшему «я не дам испортить жизнь мальчику») Гумилёв восстанавливается сразу на третий курс. Сдаёт экзамены экстерном.
Продолжается спокойная жизнь недолго. В 1938-м году его снова арестовывают. На этот раз по доносу профессора филологии Льва (Лейбы) Пумпянского, которого Лев уличил во лжи прямо на лекции, когда речь зашла о биографии и поэзии Николая Гумилёва, – профессор буквально издевался над «контрреволюционным поэтом». После громкого возражения студента Гумилёва Пумпянский снисходительно бросил ему: «Кому лучше знать – вам или мне? – Конечно, мне!». Студенты засмеялись, многие знали, что он сын Гумилёва.
Вот что вспоминал об этом аресте сам Лев Николаевич: «По мере чтения доноса следователь Бархударян все больше распалялся. В конце он уже не говорил, а, матерясь, кричал на меня: «Ты любишь отца, гад! Встань… к стене!..». Да, в этот арест все было уже по-другому. Тут уже начались пытки…Так как я ни в чём не хотел признаваться, то избиение продолжалось в течение восьми ночей». Следователь кричал подручным: «Бейте по голове! Он умный!». И сам бил ребром ладони по шейным позвонкам... Бархударян знал, что делал. После его ударов у Гумилева до конца жизни периодически немела правая часть тела и отнималась рука. Надо было постоянно делать уколы.
Помимо обвинений в заговоре против советской власти от непокорного арестанта требуют, чтобы он отрёкся от отца. Лев на это не идёт и ничего не подписывает. Гумилёву дают 10 лет «за терроризм» и отправляют на Беломорканал. После двух месяцев работы на лесоповале он доходит до полного истощения. От гибели его спасает только то, что дело возвращают на доследование – прокурор требует расстрела. Заключённого доставляют в Ленинград. Но в это время арестовывают самого Ежова и того прокурора, который требовал высшей меры (обоих расстреляют). В конце концов, Гумилёв получает «всего» 5 лет и этапируется в Норильск. Повезло!..
Но перед этим, в ленинградской тюрьме, он переживает первое озарение, связанное с будущей теорией этногенеза: «"Кресты" показались мне после лагеря обетованной землей. Там можно было залезть под лавку и лежать. И у меня возникла мысль о мотивации человеческих поступков в истории. Почему Александр Македонский шёл в Индию и Среднюю Азию, хотя явно там удержаться не мог и грабить эти земли не мог, не мог доставить награбленное к себе, в Македонию, и вдруг мне пришло в голову, что его что-то толкало, что-то такое, что было внутри него. Я назвал это "пассионарность". Я выскочил из-под лавки, побежал по камере. Вижу: на меня смотрят как на сумасшедшего, и залез обратно.
Так мне открылось, что у человека есть особый импульс, называемый пассионарностью… Это не просто стремление к иллюзорным ценностям: власти, славе; это алчность, стремление к накоплению богатств, стремление к знанию, стремление к искусствам». То есть, это тот мотор, который всё двигает…
В Норильске Гумилёв работает на самых тяжёлых работах в шахте, затем его повышают до геотехника. В марте 1943 года он освобождается и, поскольку выезд ему запрещён, полтора года работает на Севере в геологической экспедиции. В 1944 году просится добровольцем на фронт. Начальство сначала отказывает, потом отпускает.
Вспоминая Дальний Север, Лев Николаевич писал: «Я в тех местах провел 1,5 года, и после этого мне первая линия фронта показалась курортом». В мае 1945 года он пишет в письме другу: «О себе: я участвовал в 3 наступлениях: а) освободил Западную Польшу, б) завоевал Померанию, в) взял Берлин, вернее его окрестности… Добродетелей, за исключением храбрости, не проявил, но, тем не менее, на меня подано на снятие судимости… Солдатская жизнь в военное время мне понравилась. Особенно интересно наступать, но в мирное время приходится тяжело».
После демобилизации Гумилёв возвращается в Ленинград. Мать встречает его очень радостно, они разговаривают всю ночь, она читает сыну свои новые стихи. С Пуниным Ахматова уже рассталась, у неё две комнаты, одну из них она отдаёт сыну.
Гумилёв восстанавливается в университете. Декан истфака Мавродин разрешает сдать экзамены за 4-й и 5-й курс экстерном. «Декан… встретил меня также ласково и приветливо, называл "Лёва"», – вспоминал Гумилёв. Студенту уже 33 года. Надо наверстывать упущенное. За один месяц (!) он сдаёт все экзамены за два курса и сразу же поступает в аспирантуру института Востоковедения. Уже в следующем (!) 46-м году Гумилёв представляет кандидатскую диссертацию по тюркам. Но защититься ему не дают. Как раз в это время выходит известное постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», где жестокой критике подвергаются Ахматова и Зощенко.
Льва Николаевича выгоняют из аспирантуры с «волчьим билетом». Они с матерью остаются без средств, опять наступают голодные дни. В конце концов, Гумилёву удается устроиться библиотекарем в сумасшедший дом, на мизерную зарплату. Через полгода он получает положительную характеристику и ещё через полгода в декабре 1948 г. блестяще защищается в ЛГУ. Это удаётся сделать благодаря помощи ректора ЛГУ Вознесенского, который на свой страх и риск берёт молодого учёного под свою опеку. Гумилёву опять везёт на добрых людей...
Меньше чем через год, осенью 1949 г. следует новый удар, Гумилёва опять арестовывают. На этот раз по доносу коллег из института Востоковедения. Коллеги, среди которых было немало русофобов, заметили молодого перспективного ученого, и за своего явно не приняли. Позже, вспоминая годы репрессий, Лев Николаевич обычно ограничивался фразой: «Да было такое время, когда вожди сажали вождей, соседи – соседей, а учёные – учёных».
Время для доноса было выбрано самое подходящее: в Ленинграде начинаются репрессии по известному «Ленинградскому делу» – руководство города, помимо всего, обвиняют в «русском национализме». Гумилёв своих православных и консервативных взглядов не скрывает, притом – он сын опальной Ахматовой – этого достаточно.
Позже Лев Николаевич скажет: «Первый раз меня посадили за папу, второй – за маму». Но это – если говорить о главных «аргументах», однако были и другие. Гумилёв просто не вписывался в тогдашние идеологические рамки. При Сталине хотя и произошёл поворот на национально-патриотические рельсы, но всё-таки не до конца (Ленинградское дело!).
В те годы, как говорил Сталин, были «оба уклона хуже», – и левый и правый. В 1920-30-х имелись в виду троцкисты и бухаринцы, а в конце 1940-х это коснулось уже русских «национал-уклонистов»… Гумилёв оказался уклонистом-традиционалистом, сторонником «цивилизационного подхода». А это, при монополии марксизма в идеологии и засильем космополитов в гуманитарной науке, рассматривалось как опасная ересь. Как «русский шовинизм».
На допросах следователь обвиняет его в антимарксистских взглядах и добивается признания: «Скажи в чём ты виноват, а в чём ты не виноват, мы и сами знаем… На тебя доносов, знаешь, сколько написано?». И добавляет: «Ну и нравы же у вас там!». (Имеется в виду круг гуманитарной научной «интеллигенции»). Гумилёв не признает себя виновным, он действительно в недоумении – за что? Прокурор ему на это откровенно говорит: «Вы опасны, потому что вы грамотны. Получите десять лет». И Гумилёв их получает.
Далее следуют лагеря в Караганде, Междуреченске, Омске. Опять тяжелые общие работы, на которых Гумилёв быстро «доходит». Выжить уже не надеется. Но тут ему вновь везёт – его, полумёртвого, помещают в больницу, где он получает инвалидность. После больницы работает помощником библиотекаря.
Это даёт возможность заниматься любимым делом. Он пишет в черновиках историю хуннов и половину истории древних тюрок по тем книгам и научным журналам, которые ему присылают с воли (это уже можно, «стихи нельзя»). «Пишу как монах, по ночам». Мать посылает ежемесячные посылки на разрешенную сумму в 200 рублей (20 рублей новыми советскими). Это позволяет хоть и впроголодь, но выжить. На фотографии начала 50-х годов, сорокалетний Гумилёв выглядит стариком…
Наконец, в 1956 году дело Гумилёва пересматривается, и его освобождают с полной реабилитацией. В общей сложности он проводит в заключении 14 лет. Освобождению способствует и то обстоятельство, что профессора Артамонов и Окладников, а также академики Струве и Конрад пишут на него положительные характеристики.
Гумилёв возвращается в Москву, где в это время находится Ахматова, но здесь его ждёт разочарование – мать встречает сына совсем не так, как он ожидал. «Когда я вернулся, к сожалению, я застал женщину старую и почти мне незнакомую. Её общение за это время с московскими друзьями – с Ардовым и их компанией, среди которых русских, кажется, не было никого – очень повлияло на неё, и она встретила меня очень холодно, без всякого участия и сочувствия. И даже не поехала со мной из Москвы в Ленинград, чтобы прописать в своей квартире. Меня прописала одна сослуживица, после чего мама явилась, сразу устроила скандал – как я смел вообще прописываться?! (А, не прописавшись, нельзя было жить в Ленинграде!) После этого я прописался у неё, но уже тех близких отношений, которые я помнил в своём детстве, у меня с ней не было».
К этому можно добавить, что, после 1953 года Гумилёв неоднократно писал матери о том, чтобы она начинала хлопотать за него – это уже могло дать результат. Но Ахматова тогда особой активности не проявила. Сын в недоумении, и очень расстроен – что мешает?.. Что-то, видимо, мешало. Или кто-то. Позже, во время очередной размолвки, мать в сердцах скажет сыну: «Я посылала тебе посылки! Тебе этого мало?!»…
После лагеря Лев Николаевич несколько месяцев мыкается в поисках работы. Устроиться по специальности не может. Работает дворником в музее. Но ему опять везёт на хороших людей. Профессор Артамонов, «преодолевая очень большое сопротивление», принимает Гумилёва на работу к себе, в Эрмитаж, на ставку беременных и больных. Вскоре Лев Николаевич получает маленькую комнату (12 кв. м) в коммуналке. Он счастлив – наконец-то, на пятом десятке лет у него есть собственное жилье! Можно начинать новую жизнь.
Гумилёв начинает усиленно работать. В 1960 году он издает книгу «Хунну»; в 1961 году защищает докторскую диссертацию по древним тюркам. Эта защита стоила ему больших нервов: сначала всё в том же «недобром» Институте Востоковедения его диссертацию «теряют», затем отказывают в рецензии… Позже Гумилёв оформляет диссертацию в книгу «Древние Тюрки», которую печатают без задержки. «Нужно было возражать против территориальных притязаний Китая, и как таковая моя книга сыграла решающую роль. Китайцы меня предали анафеме…», – вспоминал Лев Николаевич.
После книги «Открытие Хазарии», которая с большим интересом была встречена географами, Гумилёва приглашают в ЛГУ, на географический факультет. Позже он вспоминал: «Это было самое мое большое счастье в жизни, потому что географы в отличие от историков, и особенно востоковедов, меня не обижали». Только к пятидесяти годам (!) Лев Николаевич получает возможность работать со студентами: «Я просто был счастлив, что я могу ходить на работу, что я могу читать лекции. На лекции ко мне приходили не только студенты (не смывались, что всех удивляло), но даже в большом количестве вольнослушатели». Лектором он был удивительным. Кроме уникальной эрудиции, Гумилёв обладал довольно редким для преподавателя талантом – говорить увлекательно и очень ясно о самых сложных вещах.
Одну за другой учёный пишет книги: «Поиски вымышленного царства» и «Хунны в Китае». Первая вызывает критику академика Рыбакова, который пишет разносную статью. Гумилёв отвечает статьей, в которой показывает, что академик в своей критической статье допустил 3 принципиальных и 42 фактических ошибки. Так он зарабатывает еще одного врага. Но по-другому Гумилёв не может; будучи в жизни добрым и тактичным человеком, во всем, что касается дела, он непреклонен и даже беспощаден.
Вторая книга «Хунны в Китае» издается с большим трудом. Редактор «Востокиздата» Кунин всячески препятствует изданию. В конце концов, книга выходит, но – на картах «перепутаны» все названия, и нет указателя, который сначала портят, переменив страницы, а затем просто «забывают» вставить.
Это – не первая и не последняя неприятность, устроенная Гумилеву «востоковедами». Будут и другие удары, похлеще. Основная борьба развернётся после создания ученым своего главного труда – Пассионарной теории этногенеза. Но об этом далее.
P.S. Будучи уже пожилым человеком, Лев Николаевич как-то признался: «Я хотел стать священником (в 30-е годы!), но мой духовный отец сказал мне: «Церковных мучеников у нас хватает. Нам нужны светские апологеты». И я стал светским апологетом»...
Продолжение следует
Евтушенко Евгений Альбертович, историк, Красноярск















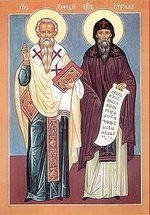






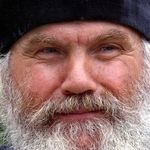


1. Евгений Альбертович Евтушенко