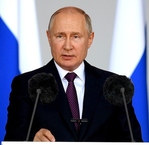Натруженные, узловатые руки Федора Степановича Скибы слегка подрагивали на коленях. Рядом сидела Юлия Семеновна, научившая меня в шестилетнем возрасте читать и писать. Это произошло, когда вместе с Федором Степановичем они жили у нас «на квартире». А теперь, много лет спустя, Юлия Семеновна, маленькая, согбенная, деликатно наставляла сидящего напротив мужа: «Про бумаги свои расскажи непременно».
Покряхтывая от боли в спине, Скиба принес «свои бумаги» – ответы из разных ведомств. Неутешительные, прямо скажем: «Данных о пребывании в Германии в годы Великой Отечественной войны гр. Скиба Федора Степановича нет». «В Федеральной службе контрразведки РФ сведений о Вашем участии в антифашистской организации «Буревестник интернационала» не имеется». «Сообщаю, что в связи с передачей Управлением службы безопасности по Сумской области фильтрационных документов в государственный архив Сумской области заявление передано для дальнейшего рассмотрения…».
– Все забыто, ничего нигде не найти. Может, и не ищут толком-то? – вопросительно посмотрел на меня Скиба. – Зря я, дурень, в Торгау отдал свое удостоверение старшему лейтенанту Пугину. Эх, зря!
– Судьба играет человеком, Федя, – спокойно заметила Юлия Семеновна, более полувека учительствовавшая в школах Андреапольского района.
– Судьба-а, – Скиба встряхнул патлатой головой. – Вот именно, что судьба…
Немцы пришли в деревню Морозовка Сумской области осенью сорок первого года. Затем ковпаковцы на два месяца вышибли их и вернули советскую власть. Федор, как и большинство деревенских мальчишек, вступил в отряд самообороны. Помогали взрослым в сельхозработах. В свободное время несли дежурство. Обучались в подвале колхозного склада стрельбе из винтовки.
– Думали, возьмет нас Сидор Артемьевич Ковпак к себе, повоюем, – вспоминал Федор Степанович. – Но скоро партизаны ушли, деревню вновь оккупировали немцы. Я в лозняк забрался, наблюдаю со стороны, что да как. Вдруг слышу, батька мой плачет, кричит: «Федька! Федька!» Высунулся я из лозняка, тут мадьяр меня и сцапал, прикладом саданул… Самооборонщиков всех взяли, человек шестьдесят. Правда или нет, но в бывшем штабе партизан осталась планшетка с нашими фамилиями. Дорого обошлось это. Двоих повесили в Каменье – Ваню Чечеля, еще одного парня – фамилию его я забыл. Погнали нас под конвоем в Кролевец, посадили в кутузку, взялись таскать на допросы. Полицаи били, запугивали. «Ну, думаю, спето наше дело, расстреляют или повесят». Тут гвалт поднялся – явились толпой родители, требуют нас выпустить. Повезло, отпустили. Потому, наверное, что Андрей, сын старосты, был с нами. Но ночью пьяные полицаи в дверь нашего дома стучат, орут во всю глотку: «Выходи, Федька!!». Пришлось подчиниться, а то дом, паразиты, зажгли бы. Повели нас под бабий бой опять в Кролевец. Дальше – в Конотоп. Оттуда повезли куда-то. Когда дверь вагона открыли, оказалось, что мы в Германии…
Федор Степанович умолк и долго смотрел в окно на тоскливую студеницкую улицу.
– В лагере под Дюссельдорфом работали мы на вальцовочном заводе. С чугунок делали ленты. Там я украл ножницы по железу. Когда бомбежка американская шла, разрезал проволоку, убежал. С неделю скитался, голодный, спал в сараях, развалинах домов, порушенных бомбежкой. Место незнакомое, густонаселенное, вокруг патрули. Сцапали меня. Избили до мяса, но в живых оставили. Попал я в лагерь Блюме, что означает по-русски цветочный. Какие там цветы разумелись, не знаю. Общались с нами, как со скотом. Коменданта Адольфом звали. Возили на завод в Ремштадт. И вот однажды подходит ко мне Толик, родом вроде из Куйбышева. Осторожно разговор заводит: есть, мол, организация молодежи «Буревестник интернационала». Не желаешь ли вступить? Толику я доверял… Вступил в эту организацию, присягу принял мстить врагу за Родину, не продавать товарищей. Фашистов я сильно ненавидел. У меня один брат погиб в начале войны на западной границе. Второй в погранвойсках служил, на границе с Турцией…Разбиты мы были для конспирации на тройки. В нашей тройке Толик, я и москвич – Александр Норков или Нырков. Первое задание было – забросить листовки в лагерь военнопленных под Ремштадтом. На русском языке их где-то делали типографским способом: положение на фронте, призывы вредить немцам, верить в победу Красной Армии… Пробрался я осторожно к лагерю, привязал листовки к железке, бросил, что было сил, за проволоку и – деру. Потом повторил то же самое. Бесстрашный был. Когда освободили нас американцы, спрашивал я тех пленных, попали к ним листовки или нет. Попали, из рук в руки переходили…
На заводе вредили при любой возможности. Самолеты налетят бомбить, наши или американские – немцы свет везде вырубают, прячутся, а мы свет включаем. О своей жизни не думали. Гестапо засуетилось, допросы снимало. Меня тоже допрашивали, пугали, но я дуриком прикинулся – ничего, мол, не знаю, не видел. Никто из нас друг дружку не выдал. Особенно бесились фрицы, когда мы станки портили. Берешь «мозолек» от сварки, бросаешь незаметно в фрезер, и фрезеру хана. А еще ключи «заваливали», чтобы не годились для работы. Завод в основном на ключах специализировался.
Немцы, правда, разные были. Всех подряд дегтем мазать нельзя, неправильно это. Пауль, например, был такой. Хороший немец, Гитлера презирал. Сапожничал он. Подхожу: «Пауль ходить не в чем, колодки развалились». «Гут, гут», – улыбается. Сделал ботинки… Догадывался он, что поломка станков – наше дело, но помалкивал. Другой немец мне, можно сказать, жизнь спас. В бомбежку осколком рассадило мне руку, началось заражение крови. Так бы и окочурился, если бы немецкий врач не проникся жалостью. Расчистил рану, перевязал. Потом меня поляки и греки долго выхаживали. Хотя, конечно, было среди немцев и зверье натуральное. Измывались, как могли, некоторые. У одного паренька, помню, живот заболел. Немцы его разрезали, тряпками замотали и оставили паренька умирать. «Симулянт», – сказали…
В начале мая сорок пятого освободили нас. Радость была великая, слезы, обнимания. Толик принёс мне удостоверение, что был я членом подпольной организации «Буревестник интернационала», предупредил, чтобы на вокзале я садился в первый состав. Приехали мы в Торгау, в ведение старшего лейтенанта Ивана Даниловича Пугина. Он удостоверение мое забрал. Дальше состав вывез нас в Черновцы, в распоряжение капитана Полывина. Он взял составленное Пугиным личное дело: «Это необходимо для фильтрации». Пока «фильтровали», я в сорок шестом году немного на лесозаготовке под Москвой работал. Ничего плохого за мной не обнаружили. Получил я военный билет и уехал в свою Морозовку. Но там у меня не сложилось, так как дом был один на двоих с братом. Как раз письмо пришло от родственника, Максима Харитоновича Володько, уроженца села Камень, что недалеко от Морозовки… Он Андреаполь освобождал в начале сорок второго года, был офицером, командиром артиллерийской батареи. Ну чего я тебе про него рассказываю? Это муж твоей тети Наташи…
У меня уже образование было – бухгалтер. Курсы я окончил. Но и любой другой работы не боялся. Лесорубом был, киномехаником, трактористом. На Север даже временно подавался за деньгой, шахтером работал. Мы с Юлей к тому времени расписались, она в Андреаполе учительствовала в младших классах. Подзаработав деньгу, вернулся я. В Баженове новый дом построили, но Баженово умерло. Пришлось в Студеницу перебраться. Здесь я себя тоже не жалел…
Скиба, закончив рассказ, сидел на табуретке, ссутулившись и глядя в угол просторной избы, где на тумбочке стоял большой бюст человека, чем-то неуловимо на Федора Степановича похожего.
– Кто это?
– А это, представь себе, я. Брат мой, известный на Украине скульптор, меня увековечил. Видишь, какой я важный? Как полководец или губернатор, – Федор Степанович улыбнулся и возвратился к тому, о чем болела его душа. – Не желаю считать себя каким-то героем. На амбразуры я не ходил, танки не подбивал, не стрелял даже по врагу. Не ради этого пишу всюду запросы. А чтобы признание было: боролись мы там, в Германии, против фашистов как могли. Эх, отыскался бы Пугин! Оно бы по-другому, конечно, вышло.
Распад Советского Союза Федор Степанович оценил с глубоким огорчением: «Боюсь я, Запад перетянет Украину под себя и настроит против России. Там западенцы-униаты волю диктуют. Иной они с нами веры, и агрессивность у них против русских сильная… Но отделяться нам никак нельзя. Один же с русскими народ большинство украинцев…
Как в воду глядел ветеран. Сегодняшние события на Украине это подтвердили.
…Изредка я навещал Федора Степановича и Юлию Семеновну и находился в курсе того, что происходило в их жизни. Федора Степановича признали узником концлагерей. Юлия Семеновна, пройдя обучение на курсах, стала вести в Жуковской школе факультатив по православию. Посадки на огороде пришлось заметно сократить по причине слабости здоровья. Продали корову. Следы старшего лейтенанта Пугина найти так и не удалось. Связь с украинской родней прервалась. Школа закрылась. У Юлии Семеновны село зрение, она получила инвалидность первой группы. Старики возмущались напастями, свалившимися на Россию: запустением полей, вымиранием народа, разрушением образования. А затем шокировали меня новостью: в Москве внезапно умерла их дочь, золотая медалистка Андреапольской средней школы, выпускница института иностранных языков. В общем, хватили они лиха.
Нет уже в живых этих скромных тружеников. После кончины Федора Степановича за ослепшей, оглохшей, парализованной Юлией Семеновной ухаживали соседи. Как-то дом вдруг загорелся, Юлия Семеновну вынести не успели. Каждый раз, проезжая мимо этого места в деревне Студеницы, я обнажаю свою седую голову.
Валерий Яковлевич Кириллов, русский писатель, г. Андреаполь, Тверская область