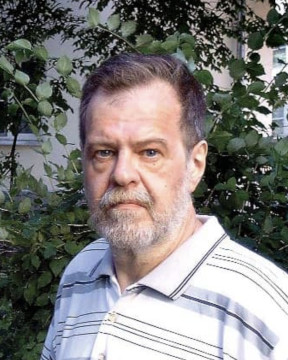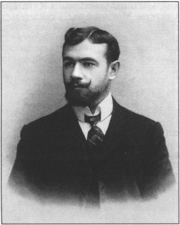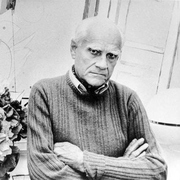Психологическая прихотливость, сложное слоение психики улавливаются тончайшим И. Анненским, и, переданные через образ, они, так воплощённые в поэтическом слове, словно предлагают новый вариант поэтического восприятия мира:
Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей.
Общие мерцания – Анненский-Достоевский, Анненский-Тютчев…
Мастер гранёных созвучий, вспыхивающих вместе с тем сакральной нежностью любви:
Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя…
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.
Здесь: сам космос любви раскрывается, слоясь запредельной небесностью; любовь – к звезде?
Или отблеск Божественной, - поразительно, лапидарно переданный?
Анненский, оставаясь в полях классического стиха, словно выстраивает мост в двадцатый век, на кого только не влияя: и у Маяковского, вроде бы совершенно противоположного ему по складу и ладу, можно найти нечто от совершенной поэзии Анненского.
Анненский муаровых сумерек.
Анненский приглушённых звучаний: аффектация всегда отдаёт фальшью, пафос вечно избыточно румян.
Анненский – контуров, силуэтов, зыбкостей, трудно уловимых, и – тем не менее, чётко зафиксированных, как «Чёрный силуэт»:
Пока прильнув сквозь мерзлое окно,
Нас сторожит ночами тень недуга,
И лишь концы мучительного круга
Не сведены в последнее звено, —
Хочу ль понять, тоскою пожираем,
Тот мир, тот миг с его миражным раем…
Уж мига нет — лишь мертвый брезжит свет…
Мёртвый свет страшен?
Но и такой - он остаётся светом: а Петербург вообще даётся в мутноватых, приглушённых тонах, дожди кропят вечно, сырость промозгло лезет в сердце:
Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты…
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Анненский трагедии, отливающейся в различные поэтические формы.
…пока бушует греческая драма, где напряжение таково, что сейчас – вместо героя – погибнет хор.
Анненский переводит основательно и точно, весомость сказанного слишком сильна, чтобы века могли не считаться с нею.
Бархат, но и – отточенная сталь французских поэтов.
Величественный белый стих античности, не ведавшей рифмы - была б пустой побрякушкой…
Анненского не представить без рифмы – её зияния и сияния органичны, как белые ночи Петербурга.
…демиург которого благоволил Анненскому – удовлетворённый такими созвучиями.
Анненский «Аметистов»:
Когда, сжигая синеву,
Багряный день растет неистов,
Как часто сумрак я зову,
Холодный сумрак аметистов.
И чтоб не знойные лучи
Сжигали грани аметиста,
А лишь мерцание свечи
Лилось там жидко и огнисто.
Костры не подойдут ему: его – это мерцание свечи, острое копьецо, ранящее воздух, медленное оплывание воска…
Но – кажется – ему должно быть близко и нутро православного храма, со смесью запаха воска и едкого благоухания лилий, с тяжёлым мерцанием окладного золота, и таинственными сияниями нимбов.
О! многое близко ему: в мировом пантеоне культуры, истолкованным по-своему.
Анненский критик проникает в самую сущность литературных вещей, словно иглу познания вонзает в нерв оных.
В статье «Что такое поэзия» Анненский признавался: Этого я не знаю…
Но – он сам был поэзией: высок и возвышен, аристократически-благороден и элегантно сдержан, указавший пути многим последующим поэтам.