
Тертые его тома; словно опыт, пропущенный через жернова народной скорби, жил и в Распутине, определяя дыхание его книг.
Вместе – словесная мощь, не спешность повествования, крупная и круглая детализация всего окрестного мира: вернее – той его части, что попала в писательский объектив.
Но и – буйство жизни, роскошь её космоса: как делается очерк о сборе ягод, сколько красок, словно сок жизни течёт в читательское сердце.
«Живи и помни» дышит адом: ад, в который жизнь превращает война, не будет избыт даже любовью: Настёна, скрывая мужа, проблема дезертирства остро режет плоть бытия, понимает, что рано, или поздно… всё взорвётся трагедией.
Краски холодны, а хочется… хотя бы тёплых.
Что бы ни совершил человек, ему хочется жить; в Распутине отражается космос Достоевского, сквозь все тёмные лабиринты выводившего к свету: хоть свет этот и может быть не очевиден.
Лесоповал, где работает Настёна; муж, скрывающийся в тайге, в зимовье; всё прояснится – через деталь.
Жизнь… озарённая минутной радостью: муж жив; жизнь, перекусывающая метафизический хребет: Настёна жертвует собой, топиться, чтобы не вывести на след мужа.
А ведь победа уже грянула…
Тайга поёт.
Немо звучит всею мощью своей, равнодушной как будто к муравьиной пряже человеческих жизней.
Страшно звучит.
Как Матёра – которой не будет.
Будут распутинские старухи: древние, словно из земли уже составленные, упорные в нежелание умирать, и… царственный листвень осеняет, хозяин острова, нечто из сказа.
Матёру затопят.
Китеж не всплывёт.
Тугое повествование, фразы, налитые неизбывной тоской, фразы-строки, звучащие поэтично; мистика своеобразия распутинской прозы.
«Уроки французского» придётся выучить, или – бессмысленно вторгаться в жизнь.
Жизнь тощая, нищая, картошка да хлеб; жизнь, выплёскивающаяся за край правильной социальности: пацаны играют в неодобрительную игру; учительница, из жалости включившаяся в оную...
Распутин писал жизнью – и своим опытом, и словно генетическим; он писал той мерой правды, которая отменяет праздник: слишком не под него сделана жизнь.
Да, в его прозе мало праздничного, но то, что есть она в литературе – праздник оной.







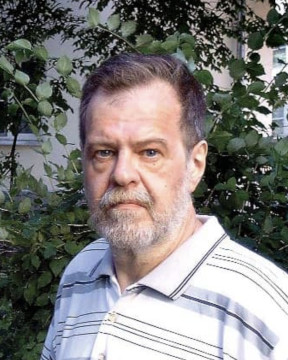




















1.
В.Г.Распутину
("Лена, я валяю дурака...")
Жизнь катится, как с горки снежный ком,
Круглея пышными, как ноль, боками.
А где-то на пути всегда есть камень,
И ком иль сядет на него верхом
Иль разобьется вдрызг об этот камень.
Дурачиться, валяя дурака,
Катая его по полу, как мячик,
Не улыбаясь и не хохоча,
Не насмехаясь, не жалея и не плача, -
Урок от старого седого мудреца
И наставление отца...
А вот дурачиться, валяя дураков,
Катая их в навозной теплой куче -
Это урок от академии веков,
В которой лечат, развивают, учат.
К примеру вот, Китайская стена.
Она не говорит, но не немая.
И амбразуры внутрь направляя,
Ступеней вопиёт величина,
На землю с башен дураков валяя:
"А вот Китайская ли она стена?
Кому дана? Киту ли? От кита ли?
Зачем нужна? Какая где страна?
И почему стена из космоса видна?
И почему она внутри пустая?
Мир временный валяет дураков.
Так с лилипутами играют гулливеры,
Стращая их посредством ложной веры
В невидимых и внутренних врагов.
И страх таков, что много книг написано про это.
Вот только не касается стихов
Ни целлофан на фабрике шелков,
Ни стёкла на заводе самоцветов,
Ни комитеты банков-кошельков,
Дома советов, радуги-калеки
В гей-клубах облапошенных жрецов.
Стихи - ведь это - аромат духов.
Духи поэта слышимы без слов,
Как дух прозаика,
Где голос жив, хоть звука часто нету.