
1. Статья Гоголя «Несколько слов о Пушкине»
Хорошо известны слова Гоголя в статье «Несколько слов о Пушкине» (1834): «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». Эти строки давно стали хрестоматийными. В 1880 году с них начал свою «пророческую» речь о Пушкине Ф.М. Достоевский. Гоголь, «оценивая» Пушкина, поставил кардинальную проблему отношения его наследия к народной жизни, соизмеряя пушкинскую поэзию традиционными русскими ценностями, т.е. поднял, как сказали бы теперь, вопрос о национальной идентичности гения поэта. Статью Гоголь предпринял ради утверждения национальных ценностей. Решая эту задачу, Гоголь мог бы сделать это, указывая только на лучшее в сочинениях Пушкина. Однако во времена Гоголя слава поэта ещё не была столь незыблемой, как теперь. Поэтому определение Пушкина как русского национального гения Гоголю пришлось доказывать, обращаясь к наследию поэта в полном объеме, не исключая спорных моментов. Вместе с неподдельным восхищением в его статье содержится многосторонний анализ облика поэта, каким он предстаёт в своих сочинениях и на публике, в том числе недоброжелательно настроенной.
Даже В.Г. Белинский, авторитет которого зиждется исключительно на толкованиях русской классики, в том числе Пушкина, в 1834 и 1835 годах заявлял, будто поэт является автором «мёртвых, безжизненных сказок»; писал о нём в прошедшем времени и заявлял, что тот «кончился», «мало народен», «свершил круг своей художнической деятельности» и «оставил» первое место в ряду русских литераторов (в основании всех этих «приговоров» критика лежали идеологические причины; см. ниже, раздел 6-й настоящей статьи). Белинский тут же свидетельствовал, что «ни один поэт на Руси», кроме Пушкина, «не пользовался такою народностию, такою славою при жизни, и ни один не был так жестоко оскорбляем».
Прижизненная полемика о Пушкине на публике и в критике обусловила то, что статья Гоголя носит ярко выраженный апологетический характер. Гоголь не ограничивается словами о высоком достоинстве сочинений и личности Пушкина, но подробно и последовательно отвергает то, что противоречит восприятию его как «русского национального поэта», и утверждает то, что ставит его в разряд полноценных выразителей национального духа — доказывает «право» Пушкина служить образцом для других. Это определяет и детальную аргументацию тезиса, выдвинутого Гоголем в первом абзаце, и саму композицию статьи.
«Защита» Гоголем Пушкина состоит из трёх частей: художественно-поэтической, религиозной-политической и нравственной. На суд публики Гоголь выносит противоречивые мнения о поэте, которые подробно разбирает и последовательно опровергает. Он отводит от Пушкина упреки, которые способны либо как-то «запятнать» безупречный облик поэта, либо заставить усомниться в высоком достоинстве его сочинений. Во-первых, Гоголь отвергает мнение, что сравнительно с «кавказскими» произведениями сочинения Пушкина, посвящённые средней России, выглядят бледнее; во-вторых, защищает от обвинений в мнимом вольнодумстве; в-третьих, рассеивает подозрения в сочинении Пушкиным произведений нецеломудренного содержания.
2. Апология художественности
Литературно-художественный аспект является важным, однако, как увидим далее, не самым главным в осмыслении Гоголем пушкинского наследия. Эстетические достоинства сочинений Пушкина настолько очевидны, что их превосходство «доказывать» излишне. Тем не менее Гоголь всё-таки останавливается на том, что вызывало «охлаждение» тогдашних читателей к поэту. Гоголь отмечает, что «последние» поэмы Пушкина, «писанные им в то время, когда Кавказ скрылся от него… и он погрузился в сердце России, в её обыкновенные равнины… уже не всех поразили тою яркостью и ослепительной смелостью, какими дышит у него всё, где ни являются Эльбрус, горцы, Крым и Грузия». Ошибку «массы публики» Гоголь объясняет тем, что новый для Пушкина предмет изображения — «менее исполненный страстей быт русский», потребовал у поэта и соответствующих, более спокойных красок, которые не так впечатляют публику, склонную к эффектам. В этой нелицеприятной правде изображения, не злоупотребляющей «смелостью… кисти и волшебством картин», если сама жизнь не даёт для того оснований, — «отвергающей всякое грубое, пёстрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа», Гоголь сравнивает Пушкина с беспристрастными русскими «летописцами» — преподобным Нестором и Н.М. Карамзиным. Гоголь пишет: «Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организирована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух».
В этом определении пушкинской поэзии — сама «выразительность» и художественность которой определяется правдой изображения — Гоголь прямо следовал И.В. Киреевскому, который ещё в 1828 году в «Московском Вестнике» (самом читаемом Гоголем в юности журнале), называл заключительный период развития Пушкина периодом «Русско-Пушкинским», а к главной отличительной черте этого периода относил то, что в поэмах Пушкина появляется «что-то невыразимое, понятное лишь русскому сердцу… то чувство, которым дышат мелодии русских песен».
3. Апология религиозно-политическая
Более важным в гоголевской апологии Пушкина является, однако, не эстетический спор о вкусах, а вопрос религиозно-патриотический, государственный. Эта проблематика, в свою очередь, вытекает из размышлений Гоголя о беспристрастном изображении Пушкиным русской действительности, прямым образом с ними связана. Чтобы увидеть это, следует обозначить реальный исторический контекст, который заключает в себе гоголевская статья, т.е. иметь в виду то, какие конкретные современные события определяют стремление Гоголя обозначить высоту национального гения Пушкина.
Гоголь пишет: «Он при самом начале своём уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа». Само по себе эта гоголевская «формула» ничего оригинального на тот момент не представляла. Точно такое же представление о народности применительно к пушкинской поэзии высказывали ранее, во второй половине 1820-х годов, несколько критиков — Д.В. Веневитинов, Н.И. Надеждин, Кс.А. Полевой, М.А. Максимович — уже упомянутый И.В. Киреевский. Наиболее наглядным в этом ряду является высказывание Веневитинова 1825 года: «Я полагаю народность не в черевиках, не в бородах и проч. ... но в самих чувствах Поэта…» Принципиальная новизна гоголевского определения — в «актуальности» такой постановки вопроса, в приложении мысли о народности поэзии Пушкина к современности. Совсем незадолго перед тем новый министр народного просвещения С.С. Уваров, следуя начинаниям Императора, провозгласил программу образования в духе Православия, Самодержавия, Народности. Народность поэзии Пушкина Гоголь подчёркивает именно в связи с программой Уварова.
Н.В.Гоголь. Рисунок А.С.Пушкина. 1833 г.
Религиозно-политическая составляющая апологии Гоголем Пушкина ориентирована прямо на инициативы Уварова. Главной задачей, которую Гоголь решает в статье, является защита поэта от обвинений в вольнодумстве. По поводу первоначального периода пушкинской деятельности (закончившийся южной ссылкой поэта), Гоголь указывает, что не вольнодумство, но лишь юношеские смелость и отвага, «разгул и раздолье, к которому иногда, позабывшись, стремится русский и которое всегда нравится свежей русской молодёжи, отразились на его первобытных годах вступления в свет». В исключённом фрагменте статьи Гоголь добавлял: «…Если сказать истину, то его стихи воспитывали и образовали истинно-благородные чувства несмотря на то, что старики и богомольные тётушки старались уверить, что они рассеивают вольнодумство, потому только, что смелое благородство мыслей и выражения и отвага души были слишком противоположны их бездейственной вялой жизни, бесполезной и для них, и для государства».
Для понимания гоголевской мысли следует иметь в виду, что под «стариками и богомольными тетушками» Гоголь подразумевал вполне определённый — «александровский» — тип «набожности». «Школу» такой набожности прошел, кстати сказать, и Уваров — в прошлом один из директоров Библейского общества, масон, сотрудник князя А.Н. Голицына. Доверие поэтому к новому министру, осуществлявшему с 1834 года, по поручению Императора, национально-образовательную политику — было в русском обществе сдержанным. Административной «чуткостью» к меняющимся обстоятельствам Уваров напоминал лицемерного «консерватора» Фамусова из «Горя от ума» А.С. Грибоедова: «Он и благопристойный степенный человек и волокита… Он даже вольнодумец, если соберётся с подобными себе стариками, и в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых честит всех, кто не подчинился светским обычаям их общества». Формальное благочестие подобных «стариков и богомольных тётушек», осуждавших пушкинскую поэзию, Гоголь называет «бесполезной и для них, и для государства»; о Фамусове замечает, что подобные «выветрившиеся лица» «вредны обществу».
Сходные размышления о лицемерной набожности Гоголь воплотил также в повести «Нос», в «Ревизоре», драматическом «Отрывке». О возможности различного «понимания» провозглашённых Уваровым начал он писал в «Театральном разъезде...»: «Один называет нравственностью сниманье ему шляпы на улице; другой… смотренье сквозь пальцы на то, как он ворует… Говорит: “Милостивый государь, старайтесь исполнить свой долг относительно Бога, Государя, Отечества”, — а ты, мол, уж там себе разумей, относительно чего». По поводу соответствующего «патриотизма», занимающегося «приращениями на счет сумм нежно любимого… отечества», Гоголь шутил, что «что у всякого петуха есть Испания» и «она у него находится под перьями». (Тут же писатель подчеркивал универсальный характер свой сатиры — «подсказывая», что «Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства».) Гоголь подмечал: «...Вот эти все… что лезут ко двору и говорят, что они патриоты… аренды, аренды хотят эти патриоты».
Н.В.Гоголь. Несколько слов о Пушкине. Начальная страница статьи в сборнике Арабески. 1835 г.
Вне всякого сомнения, в статье «Несколько слов о Пушкине» Гоголь выступает не в защиту вольнодумства (как это порой по недоразумению заявляется), но отстаивает соответствие поэзии Пушкина — поэта нелицемерного во всех отношениях — началам Православия, Самодержавия, Народности. Упрёк в вольнодумстве настолько неприятен Гоголю — как представителю поколения поклонников пушкинской поэзии, — что он возвращает его обвинителям поэта. Это же стремление к «реабилитации» Пушкина, защиты его стихов от псевдо-благочестивых вердиктов слышится и в ряде позднейших статей Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847).
Но главным в апологии Гоголем Пушкина было даже не это — не стремление «обелить» поэта. Определяющей здесь была как раз мысль об удручающем душевном состоянии оппонентов, псевдо-набожных стариков и «тётушек» — об омертвении души современного человека, — тема, которую Гоголь потом широко развил в последующем творчестве. О лицемере Чичикове, умеющем поддержать разговор «о добродетели» «даже со слезами на глазах», припугнуть в нужном случае Страшным Судом (когда надо пристыдить кузнецов, заломивших за работу «вшестеро»; такие же реплики против «сребролюбия» принадлежат Плюшкину: «Я не знаю, как священники не обращают на это внимание...»; «...На Страшном Суде… припекут тебя за это железными рогатками!»), Гоголь писал как о человеке «начинающем стареть» — который, утрачивая «пыл юности», не дающий «мельчать чувствам», всё более охватывается «пошлыми привычками света… приличиями без дела движущегося общества, которые до того, наконец, всё опутают и облекут человека, что… попробуешь добраться до души, её уж и нет»: «Окременевший кусок и весь превратившийся человек в страшного Плюшкина...» В «Портрете» о «мёртвой душе» другого героя Гоголь тоже писал, что жизнь его уже «коснулась тех лет, когда всё дышащее порывом сжимается в человеке… отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота… позволяют… совершенно усыпить себя». Как бы подытоживая эти размышления, в статье «Христианин идёт вперёд» (1846) Гоголь заключал: «...Пересмотри жизнь всех святых: ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти… У них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности...»
4. Нравственная апология
Третья составляющая апологии Гоголем Пушкина в свою очередь связана с предыдущей — с темой подлинного и мнимого благочестия. В этой части защиты Гоголь отвергает адресуемые Пушкину обвинения в безнравственности. Говоря о всеобщей славе поэта, он обращает внимание на то, как по вине «досужих марателей» эта слава стала вдруг дурной: «Под именем Пушкина рассеивалось множество самых нелепых стихов. Это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильною известностью… Таким образом, начали… Пушкину приписывать: “Лекарство от холеры”, “Первую ночь” и тому подобные».
Гоголь затронул здесь вопрос об оборотной стороне популярности — о стремлении обывателя «свести» с пьедестала признанного поэта, приблизить к своему уровню. Этому стремлению «способствовало» и то, что фривольная литература была у «пошлой» публики в ходу. «Закономерно» упражнения в подобном жанре — «“Первую ночь” и тому подобные» — стали приписывать «главному» поэту России (Гоголь отмечал, что «это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильною известностью»).
Сам Пушкин о непристойных стихотворениях, — в частности, о последнем из стихотворений, упомянутых Гоголем, — «Первая ночь», — отзывался как о «скверных стихах, исполненных отвратительного похабства… которые публика благосклонно и милостиво приписывала» ему. Одного из изготовителей подобной «литературы» — С.А. Неелова (1779–1852) — Пушкин называл «певцом навоза» («le chantre de la merde»; фр.).
Именно в такие «певцы» и записывала Пушкина, по недоброжелательству или недоразумению, современная публика. Отвечая на эти обвинения, Гоголь вновь возвращал недоброжелателям упрёк в адрес Пушкина, раздававшийся с их стороны. В рецензии на книгу Е.И. Ольдекопа «Картины мира», предназначавшейся для пушкинского «Современника», Гоголь вернулся к резко критической характеристике «стариков и богомольных тётушек», данной ранее в статье «Несколько слов о Пушкине». Говоря о всеобщей популярности в светской публике героя фривольного романа французского писателя Луве де Кувре «Любовные похождения кавалера де Фобласа», Гоголь в рецензии замечал: «...Нравственность этого века была не очень чиста, и те, которые читали питательные книги, делали под рукою такие шашни и проказы, которые теперь бы слишком бросились всем в глаза… В одно время с таким множеством нравственных сочинений появлялись такие безнравственные, что теперь даже отважнейшие из французских писателей посовестились бы написать. Все старики тогда читали душеспасительные книги, вся молодёжь, напротив, читала Фоблазов и других… при внимательном рассмотрении оказывалось… что едва ли старики не обгоняли молодёжь в своих домашних делах».
Обличая «домашнее», гораздо более предосудительное поведение стариков, Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине», напротив, подчёркивал «чистоту» даже «антологических», т.е. чувственных стихотворений поэта: «Они так просто-возвышенны, так ярки, так пламенны, так сладострастны и вместе так детски чисты».
Н.В.Гоголь. Худ. А.Г.Венецианов. Автолитография. 1834 г.
В нравственной части апологии Пушкина Гоголь явно следовал самому поэту. Это касается не только пушкинских негативных характеристик в частных письмах стихотворения «Первая ночь» и фривольных опытов Неелова. Слова о «развратных стариках» содержатся в четвёртой главе «Евгения Онегина», напечатанной впервые ещё в 1828 году: «Разврат бывало хладнокровной / Наукой славился любовной… / Но эта важная забава / Достойна старых обезьян / Хвалёных дедовских времян...» В 1822 году Пушкин писал о том же брату: «Замечу… что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. Однако забава эта достойна старой обезьяны XVIII столетия».
О ещё одной клевете на Пушкина — о ещё одной негативной черте, приписанной поэту «пошлыми» обывателями, а именно, о пьянстве, — Гоголь упомянул позднее в «Ревизоре». Здесь же Гоголь вновь вспоминал и о приписанном поэту стихотворении «Лекарство от холеры» (которое называл ранее в статье «Несколько слов о Пушкине»). Заведомая комичность сцены, в которой Хлестаков представляет Пушкина подверженным греху винопития, а также упоминание о «Лекарстве от холеры», недвусмысленно указывают на то, что в «Ревизоре» Гоголь продолжает свою апологию поэта, высмеивая нелепые мнения: «А как странно сочиняет Пушкин. Вообразите себе: перед ним стоит в стакане ром, славнейший ром, рублей по сту бутылка… и потом уж как начнёт писать, так перо только: тр... тр... тр... Недавно он такую написал пиэсу: Лекарство от холеры, что просто волосы дыбом становятся». — Тут весьма кстати Гоголю пришлись слова самого Пушкина в письме к жене 1833 года, где он сообщал о себе провинциальные толки: «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия: как Пушкин стихи пишет — перед ним стоит штоф славнейшей настойки — он хлоп стакан, другой, третий — и уж начнёт писать! — Это слава!»
5. Незавершённый путь Пушкина — перспективы развития словесности
Определение национального гения Пушкина — задача чрезвычайно ответственная. Сам Гоголь это хорошо сознаёт, когда указывает, что пушкинские сочинения «можно назвать пробным камнем, на котором можно испытывать вкус и эстетическое чувство разбирающего их критика». Позднее Гоголь употребил тот же образ, говоря о Святой Пасхе, — наблюдая, как реально празднуется в России Светлое Воскресение, — когда порой «даже и сам народ, о котором идёт слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадается на улицах». На этом «праздновании», пишет Гоголь, «как на пробном камне», можно поверять, «как бледны все… христианские стремленья» нынешнего века. С тем большим сожалением Гоголь в заключении статьи о Пушкине восклицает о непонимании его произведений, призванных, по Гоголю, «воскрешать» и оживлять «умершее»: «...Увы… чем более поэт становится поэтом… тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы...»
Рассматривая творчество Пушкина в свете духовно-нравственных категорий и ценностей, в контексте национальной идентичности, Гоголь порой и сам брал на себя роль критика, сдержанно оценивающего те или иные стороны пушкинского наследия. Наиболее наглядно такая критика сказалась в обширной статье о русской поэзии в «Выбранных местах из переписки с друзьями», где Гоголь подчёркивал, что перед поэзией стоит в настоящее время задача освоения новых, более обширных горизонтов: «Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обработывать и округлять стих свой, не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он... Скорей от Державина, чем от Пушкина, должен был он засветить светильник свой»; «Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых ещё продолжает ветрено лепетать молодое… поколенье... нельзя служить и самому искусству… не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли… Христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт».
Следует иметь в виду, что даже «критикуя» Пушкина, Гоголь продолжал оставаться его духовным наследником и преемником — продолжателем пушкинских традиций. Гоголь указывал на неуклонное следование самого Пушкина ко всё более полному выражению народных идеалов, особенно в последние годы жизни. Гоголь замечал: «Как умно определял Пушкин значение полномощного монарха и как он вообще был умён во всём, что ни говорил в последнее время своей жизни!»
Похожие слова Гоголя о поэте оставила в своём дневнике Е.А. Хитрово, его одесская знакомая (впоследствии — настоятельница сердобольных сестёр Симферопольской Крестовоздвиженской общины). Гоголь как непосредственный очевидец, как единомышленник Пушкина, в 1851 году также свидетельствовал о стремлении поэта в последние годы к выражению всё более важных и значимых национальных ценностей: «Пушкин был необыкновенно умён. Если он чего и не знал, то у него чутьё было на всё. И силы телесные были таковы, что <их достало бы> у него на девяносто лет жизни… Я уверен, что Пушкин бы совсем стал другой. И как переменился. А это замечательное сочинение… (имеется в виду религиозное стихотворение Пушкина 1835 года “Странник”. — И.В.). Он хотел оставить Петербург и уехать в деревню; жена и родные уговорили остаться». То же самое — всё более умножавшееся — становившееся всё более доступным — постижение духовных основ народной жизни, — Гоголь предрекал и продолжателю Пушкина, Лермонтову: «В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства… Тут видно больше углубленья в действительность жизни — готовился будущий великий живописец русского быта... Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла».
По поводу оборвавшегося становления национальных гениев Пушкина и Лермонтова, обещавших развитию русской классики новые широкие горизонты, Гоголь восклицал: «Слышно страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь из них, упустив из виду своё главное поприще и назначенье, бросался на другое или же опускался в тот омут светских отношений… внезапная, насильственная смерть вырывала его вдруг из нашей среды. Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим… были похищены насильственной смертью… и… даже не содрогнулось ветреное племя».
Констатация Гоголем незавершённости развития пушкинского и лермонтовского гениев — не упрёк поэтам, а призыв к дальнейшему развитию отечественной словесности новыми писателями: «Много предстоит теперь для поэзии — возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомнят они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая; она будет ближе и родственней нашей русской душе. Ещё в ней слышней выступят наши народные начала».
6. Духовная «идентичность» Пушкина и Гоголя
В радикальной публицистике и последующем ангажированном литературоведении долгое время господствовало мнение, будто между Пушкиным и Гоголем существует некая немаловажная разница: один — гений светлый, жизнеутверждающий, другой — обличающий, а потому «тёмный» и «мрачный». На самом деле противостояния и противоречия между «пушкинским» и «гоголевским» направлениями нет. С Пушкиным Гоголь был лично и близко знаком, получил от поэта «благословение» на создание нескольких произведений. Поэтому говорить о том, будто бы между Гоголем и Пушкиным существует некий «разрыв», — тогда как пушкинскую традицию якобы продолжили «по-настоящему» писатели, которые знали о поэте только по книгам, — само по себе нелепо.
Разительный контраст и даже антагонизм, реально присущие литературному процессу в России в XIX веке, заключаются в другом. Действительная разница наблюдается не между Пушкиным и Гоголем, а между общим пушкинско-гоголевским периодом русской словесности и последовавшим этапом, отмеченным деятельностью так называемой натуральной школы — школы, являющейся идейной преемницей «неистовой» французской словесности (хотя сами представители школы, использовавшие отдельные художественные приёмы Гоголя, самонадеянно заявляли, будто «все» они «вышли из гоголевской “Шинели”»).
С конца 1980-х годов перед современной наукой встала задача создания новой, свободной от навязанных стереотипов концепции развития русской словесности. В связи с этим насущно необходимым стало определение наиболее важных ориентиров, критериев национальной идентичности, без которых воссоздание объективной картины литературного процесса невозможно. В этом состоит вся «методология» и научная база исследования, в том числе настоящей работы.
В общих чертах критерии для определения магистрального развития нашей словесности — художественно-эстетического, религиозно-политического и нравственного характера — как раз и были определены Гоголем в рассмотренной статье 1834 года «Несколько слов о Пушкине». Последующей «дорожной картой» к выявлению концептуальных начал литературы служит детальный анализ идейного и духовного родства Пушкина и Гоголя — как автора эссе о Пушкине, поставившего впервые эту задачу. Глубинное единство пушкинского и гоголевского гениев до сих пор до конца не исследовано. Однако даже предварительное изучение вопроса, перечисление обозримых взаимных притяжений позволяет обозначить сразу несколько глубоких генетических связей между писателями.
Н.В.Гоголь. Рисунок К.П.Брюллова. 1836 г.
По словам Гоголя, слава Пушкина «распространялась» в России, как никакого другого писателя, его имя «имело в себе что-то электрическое» («Несколько слов о Пушкине»). Сам Гоголь влияние Пушкина испытал ещё в юности. Своё литературное поприще он начинал со стихов и, будучи сам наделён поэтическим дарованием, не мог не почувствовать органичной, близкой к народной религиозности Пушкина. До сих пор читателей и исследователей не без оснований смущают известные «суеверия» поэта. Однако суеверие суеверию — рознь. То, что обычно вкладывается в это понятие, в поэтической картине Пушкина приобретает совсем иной смысл. Поэт, подаривший России замечательные строки: «Там чудеса, там леший бродит», глубоко ощущал, что народные предания, даже и «суеверия» (или то, что таковым представляется) обладают живительной силой. Для человека, глубоко верующего, церковного, это, безусловно, отступление от подлинного верования. Но для человека, утратившего всякую веру, это кладезь, который даёт надежду на исцеление.
Со своей стороны Гоголь уже в своей самой ранней, юношеской поэме «Ганц Кюхельгартен» (1827–1829) восклицал по поводу духовной «пустыни» современности: «О, как чудесно вы свой мир / Мечтою, греки, населили! / Как вы его обворожили! / А наш — и беден он, и сир, / И расквадрачен весь на мили». Для Пушкина, верного «зеркала» и чуткого «уха» жизни, пресловутые «суеверия» выступали зримыми знаками невидимого мира, посылаемыми предсоньями и предчувствиями явлений духовных. Жизнь, в самой заурядной её обыденности, оказывалась полна поэзии — живых свидетельств о потустороннем, о незримом Творце, что всегда вселяет в человека радостную веру в осмысленность бытия, рождает само поэтическое творчество. Сказка, народная легенда, суеверный обычай, даже «мистический» художественный «вымысел» (как литературное отражение самой жизни) уже заставляют человека усомниться в своём атеизме, становятся первыми шагами ко спасению. Другими словами, вера рождалась у Пушкина не только от книги, но и от самой жизни.
Двоякое отношение к «суевериям» — которые подчас становятся для человека прямыми «дорожными знаками» — не ложными и неправильными, но истинными и спасительными, — Пушкин прекрасно осмыслил сам. Один из примеров — чрезвычайно важный и значимый эпизод в «Капитанской дочке», где, как бы поставляя себя на суд строгих ревнителей, поэт смиренно предупреждает: «Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам». И сразу вслед за этим Пушкин вводит в повесть один из самых страшных и зловещих снов в своей жизни. Сон о лукавом заигрывании с ним радикалов-декабристов, манивших поэта в свои ряды: «...Мужик… выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны… Комната наполнилась мертвыми телами... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: “Не бойсь, подойди под мое благословение”...»
С неменьшей силой эти же чувства глубокой, искренней веры и религиозной чуткости органично воплотил, одновременно с Пушкиным, Гоголь в своих «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Автор «Вечеров...» в свою очередь неизменно чутко и внимательно относился ко всякому искреннему проявлению веры, полагая, что со временем та обратится к своему законному источнику. Это общая для Пушкина и Гоголя «народная» черта составляет неотъемлемую, существеннейшую часть их поэзии. Это попутно объясняет и глубокое понимание Гоголем пушкинской поэзии. Сам Гоголь пояснял: «...Вся поэзия есть тайна; трудно и над простым человеком произнести суд… произнести же суд… над поэтом может один тот, кто заключил в себе самом поэтическое существо...»
Понимание поэзии как «незримых ступеней к христианству» было глубоко присуще и Пушкину, и Гоголю. Это представление последний прямо распространял на пушкинскую поэзию. В «Выбранных местах...» в связи с обвинениями Пушкина в «нехристианстве» он писал: «Есть много среди света такого, которое для всех, отдалившихся от христианства, служит незримой ступенью к христианству». В этом Гоголь как никто другой — вследствие духовной общности — понимал Пушкина, со всеми его кажущимися странностями и противоречиями. С одной стороны, казалось бы, духовная неразвитость, двоедушие, «двоеверие», суеверие, с другой, — сосуществование и взаимопроникновение веры и лиризма. Это уже не нелепая черта, а принципиальная «позиция», почти поэтическая программа Пушкина. Пушкин был поэт — и этим уже носил в себе живое, трепетное начало веры.
Вследствие общего духовного настроя Гоголю были чрезвычайно близки слова Пушкина о том, что «религия» является «вечным источником поэзии у всех народов». О глубокой связи поэзии и религии, веры и «лиризма» Гоголь размышлял позднее неоднократно — в статье «О лиризме наших поэтов», в письме к художнику А.А. Иванову 1847 года, в «Авторской апологии».
Духовное родство Пушкина и Гоголя с очевидностью являет себя и в самых известных, «лежащих на поверхности» хрестоматийных фактах. Сам Гоголь неоднократно признавался, что Пушкин дал ему сюжеты главных его произведений — «Ревизора» и «Мёртвых душ». Обычно эти свидетельства воспринимаются лишь как некая фактическая данность, почти «случайность» в биографии писателей. Но случайностью может быть любое событие; когда же два выдающихся произведения разных жанров, сочинений мирового уровня, своим происхождением оказываются одинаково «обязанными» одному источнику, это говорит уже о другом — об особом идейно-художественном «родстве» между писателями.
«Сугубый» факт происхождения с одного «пушкинского стола» замыслов «Ревизора» и «Мёртвых душ» тоже должен быть осмыслен в свете присущей Пушкину и Гоголю «генетической» близости, их национальной «идентичности». Изучение показывает, что в гоголевской комедии действительно оказалось немало «пушкинского». А достоинство сюжета «Мёртвых душ» Пушкин, по словам Гоголя, находил в том, что он даёт возможность «вывести множество самых разнообразных характеров».
Лишь в XX веке было замечено, как это пушкинское замечание сказалось в самой композиции гоголевской поэмы. Своё произведение Гоголь посвятил героям, для которых различные жизненные увлечения, или, употребляя гоголевское выражение, «задоры» составляют если не смысл жизни, то наиболее важное и дорогое для них её содержание. Об этом Гоголь размышлял во второй главе поэмы: «У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки… третий мастер лихо пообедать; четвёртый сыграть роль… повыше той, которая ему назначена...». Гоголевские строки представляет собой прямую реминисценцию из «Евгения Онегина»: «У всякого своя охота, / Своя любимая забота: / Кто целит уток из ружья, / Кто бредит рифмами, как я, / Кто бьёт хлопушкой мух нахальных, / Кто правит в замыслах толпой, / Кто забавляется войной, / Кто в чувствах нежится печальных, / Кто занимается вином: / И благо смешано со злом».
В нравственной оценке и даже «сатире» негативных явлений Пушкин и Гоголь тоже обнаруживают идейную близость. Отмечено, что не Гоголь, а именно Пушкин является родоначальником темы «демонического» Петербурга. Гоголь лишь развил потом эту тему в своих в «петербургских» повестях — сумев сделать это вследствие сходной с пушкинской ментальности. Речь и в этом случае идёт не столько о «влиянии», сколько о той духовной общности, на которой это влияние могло осуществиться.
Панорама Невского проспекта. Левая солнечная сторона. Лит.И.А. и П.С. Ивановых по акв.В.С. Садовникова. Изд.А.М. Прево. 1835 г.
Большой театр. Фрагмент панорамы правой, теневой стороны Невского проспекта. Литографии И.А. и П.С. Ивановых по акварелям В.С. Садовникова. Изданы А.М. Прево. 1830
Откликаясь на смерть Пушкина, Гоголь в 1837 году признавался (и даже дважды): «Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеётся, чему изречёт неразрушимое и вечное одобрение своё, вот что меня только занимало и одушевляло труды мои»; «Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Всё, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему». Яким Нимченко, слуга Гоголя, тоже вспоминал, как порой Пушкин, «заходя к Гоголю и не заставая его дома, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового»: «Он с любовью следил за развитием Гоголя и всё твердил ему: “Пишите, пишите”…»
Известно о помощи Пушкина Гоголю при создании ещё одного важного, значимого произведения — повести-эпопеи «Тарас Бульба». Это пушкинское участие в патриотическом замысле Гоголя — тоже не просто «случайный» биографический факт, но проявление глубокого «созвучия» в мировоззрении и историческом мышлении писателей.
Одной из важнейших категорий национальной идентичности, в осмыслении Гоголя, является положительное отношение к организующей власти, к национальной государственности — Отечеству. Идейное «родство» Пушкина и Гоголя проявляет себя в этом качестве не только на примере «Тараса Бульбы». Несмотря на долгие спекуляции идеологов радикализма, наследие Пушкина и Гоголя заключает в себе общее государственно-патриотическое содержание. Пушкин, в отличие от своего не самого идеального окружения, всегда с глубоким чувством достоинства ощущал себя потомком и наследником служилого, патриотического дворянства. Это — главное мироощущение Пушкина как русского поэта. Кто сказал «Невы державное теченье», кто написал «Клеветникам России», — был поэтом-государственником.
Пушкин подытожил, ещё в двадцатипятилетнем возрасте: «Ты для себя лишь хочешь воли» — «мы… жить с убийцей не хотим». Тем самым поэт вынес, на все времена, решительный приговор «неистовому» радикализму. О бездушной логике, вдохновляющей самонадеянных преобразователей, Пушкин потом повторил: «Мы все глядим в Наполеоны; / Двуногих тварей миллионы / Для нас орудие одно»; «Мы почитаем всех нулями, / А единицами — себя». — Гоголь, следуя Пушкину, внёс потом дополнительные коррективы в неидеальный образ пушкинского Евгения Онегина (неидеальным этот образ был задуман самим Пушкиным). Памятуя критику в адрес Онегина И.В. Киреевского 1828 года (Киреевский называл героя «существом… ничтожным»), Гоголь использовал эти порицаемые онегинские черты в образе светского «пустышки» Хлестакова в «Ревизоре».
А.С.Пушкин. Худ. И.И. Вивьен. Конец 1826 - начало 1827 г.
Ещё в восемнадцатилетней юности Пушкин написал: «Вином и злобой упоенны, / Идут убийцы потаенны». Этим поэт, тоже — раз и навсегда, решительно отделил себя от всех политических заговорщиков. Никак иначе нельзя истолковать пушкинские строки о цареубийцах: «О стыд! о ужас наших дней! / Как звери, вторглись янычары!..» Это строки из пушкинской оды «Вольность», содержанием которой много злоупотребляли и спекулировали в советские годы. Спекулировали, не замечая, что эти слова могут относиться не только к убийству Павла I — к дому Ипатьева и Ганиной Яме они тоже вполне приложимы.
Оппозиционер-декабрист Рылеев писал стихи на тему хождения к девкам, а Пушкин заключил, в «Евгении Онегине»: «Но я другому отдана; / Я буду век ему верна» (примеры можно умножать; см. выше, раздел 4-й настоящей статьи). Эту нравственную позицию Пушкина в полной мере разделял Гоголь, который и в этом выступал достойным продолжателем Пушкина. Обличение распутcтва — одна из «сквозных» тем гоголевской сатиры.
Безусловно, Пушкин как поэт-реалист, как верное «зеркало» жизни, порой почти без остатка «перевоплощается», «входит в образ» того или иного героя, даже отрицательного, — который оттого приобретает в его произведениях «живые» черты. Такими, к примеру, являются не только Онегин, но и «разбойник» Пугачёв в «Капитанской дочке», самозванец Дмитрий в «Борисе Годунове», страдающий безумец Евгений в «Медном всаднике». Но Пушкин всегда сохранял авторскую дистанцию и нравственную оценку героя. Реальный комментарий к «Капитанской дочке» — документальная пушкинская «История Пугачёвского бунта». Уместно привести ещё одну важную, сокрытую от поверхностного взгляда негативную характеристику, касающуюся исторического персонажа, избранного Пушкиным в герои произведения. В своё время Ф.М. Достоевский справедливо заметил, что «свистун Пушкин… раньше всех Киреевских и Хомяковых… раньше всех славянофилов высказывает всю их сущность и… высказывает это несравненно глубже, чем все они...»
Наблюдения Достоевского о «славянофильстве» поэта, несомненно, очень важны. Однако их всё-таки недостаточно, чтобы получить представление о взглядах Пушкина на «славянский» вопрос в полном объёме. Пушкин, будучи государственником, т.е. мыслителем, подобным славянофилам-государственникам Н.М. Карамзину, М.П. Погодину, С.П. Шевырёву, С.С. Уварову, М.А. Максимовичу, Гоголю, — был не только убеждённым славянофилом, но ещё и глубоким критиком радикального крыла славянофильства, прежде всего «славянолюбия» польского толка. Можно заметить, с какой глубокой иронией и сарказмом он изображает политическое, лукавое «славянофильство» Самозванца в «Борисе Годунове». Клятвопреступник лже-Дмитрий, обещающий католическому патеру привести Русь под власть папы, пафосно обращается к своим единомышленникам — полякам и беглым русским: «...Сыны Славян, я скоро поведу / В желанный бог дружины ваши грозны...» Зная о резко негативном отношении Пушкина к польскому восстанию 1830–1831 годов, можно с уверенностью утверждать, что речь здесь идёт не только об истории России XVII века, но и о современном польском «славянофильстве». Спор с поляками, «братьями-славянами», Пушкин вступил ещё 1820‑х годах в послании «Графу Олизару», продолжив его в стихотворениях «Клеветникам России» (1831), «Ты просвещением свой разум осветил…» (1831–1832), «Он между нами жил…» (1834).
А.С.Пушкин. Неизвестный-художник. 1831 г.
Неоднократно критически высказывался Пушкин и по поводу «немецко-московского» радикализма — с одинаковым «успехом» породившего два внешне противоположных, но по оппозиционности сходных течения. Увлечение москвичей гегельянством способствовало, с одной стороны, появлению откровенно враждебного к официальной власти западничества, с другой — возникновению не менее резко настроенных к «немецкому» Петербургу радикалов в славянофильской среде. (Московское славянофильство состояло из двух частей — с одной стороны, из здоровой, «консервативной» партии — её представляли М.П. Погодин и С.П. Шевырёв, с другой — из оппозиционного крыла, представленного именами А.С. Хомякова, Аксаковых, Киреевских, Ю.Ф. Самарина. При одинаковом радикализме расстояние между «горячими» славянофилами и радикальными западниками — в равной мере «увлекающимися всяким ветром учения» (Еф. 4, 14) — оказывалось не столь уж существенным — почти таким, какое разделяло в древние времена фарисейство и саддукейство.)
В свою очередь и Гоголь — подобный Пушкину поэт-государственник — возвышается не только над западным польским славянофильством, но и над сепаратистки ориентированным украинским славянофильством земляка О.М. Бодянского, над оппозиционной, критически настроенной к «дому Романовых» частью московского славянофильства. Над всеми этими друзьями и знакомыми из круга славянофилов Гоголь выделяется как мыслитель, понимающий исключительное, важное для всех славян положение России в мире — единственной славянской державы, сохранившей в истории свою независимость. (Встречной поддержкой русской государственности отвечали России и другие славянские страны.)
Пушкин на протяжении более десяти лет постоянно спорил с литераторами-декабристами о важном значении патриотических од Ломоносова и Державина, которых те собирались сбросить с «парохода современности». (Исключению из списков отечественной словесности подлежали также, по приговору тогдашних западников, Кантемир, Сумароков, Херасков, Крылов, Карамзин, Жуковский, сам Пушкин. Заявляя о «ничтожности» современной литературы, либеральные критики — Анд.И. Тургенев, А.А. Бестужев, В.К. Кюхельбекер, Д.В. Веневитинов, Кс.А. Полевой, И.В. Киреевский, В.Г. Белинский (впоследствии к ним примкнул оппозиционер-славянофил Константин Аксаков) — подразумевали прежде всего то, что в России нет оппозиционного направления словесности (последнее, горячо чаемое, они называли «национальным» — тогда как оды Ломоносова и Державина зачисляли в «ненациональные»). Пушкин буквально вынужден был защищать от нападок недалёких приятелей достоинство русской словесности XVIII столетия — её абсолютное не «ничтожество», а богатство и высокий статус.
Гоголь — потомок трёх малороссийских гетманов — тоже был горячим сторонником русской государственности и традиционных христианских ценностей, во имя которых он обличал недостойных представителей своего сословия — желая их скорейшего преображения и возрождения (а не расстрелов и концлагерей для них). Именно Гоголь продолжил в 1840-х годах в «Выбранных местах из переписки с друзьями» спор Пушкина с либералами о наследии Ломоносова и Державина. Подобно Пушкину, Гоголь тоже не видел в одах русских поэтов царям ничего «раболепного» и «зазорного», подчёркивая сказавшийся в них восторг от пробуждения России, выходящей на европейский простор, воспевание её славы, гордость военными успехами и достижениями в гражданской сфере, т.е. оценил их как глубокую, подлинно религиозно-патриотическую русскую поэзию.
Многочисленные факты творческого и идейного «родства» Пушкина и Гоголя свидетельствуют не только о значимом влиянии поэта на Гоголя. В ещё большей мере они указывают на общий духовный менталитет писателей, без которого это «влияние» — в таком объёме, многообразии, глубине — состояться не могло. Общая национальная идентичность, принадлежность к корневым народным основам и причастность к вершинным проявлениям народного духа обусловила мировоззренческую и духовную близость писателей и обеспечила высокий — «классический» — уровень пушкинско-гоголевского периода русской словесности. В то же время недвусмысленно обозначаемая Гоголем «неполнота» реализации пушкинского гения (см. раздел 5‑й) заставляет вспоминать его заключительные строки в статье «Светлое Воскресенье» о том, «лучше ли мы других народов», «ближе ли… ко Христу, чем они»: «“Хуже мы всех прочих” — вот что мы должны всегда говорить о себе». «Но… самое неустройство наше», добавляет Гоголь, нам «пророчит», что «праздник Воскресенья Христова» в полном его значении «воспразднуется прежде у нас, чем у других», — потому что «есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа», потому что «мы ещё растопленный металл», «ещё нам возможно… внести в себя всё, что уже невозможно другим народам».
Виноградов Игорь Алексеевич, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Русская литература и христианская традиция» Института мировой литературы РАН, член Союза писателей России
Впервые опубликовано в журнале «Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки» (2024. № 2)








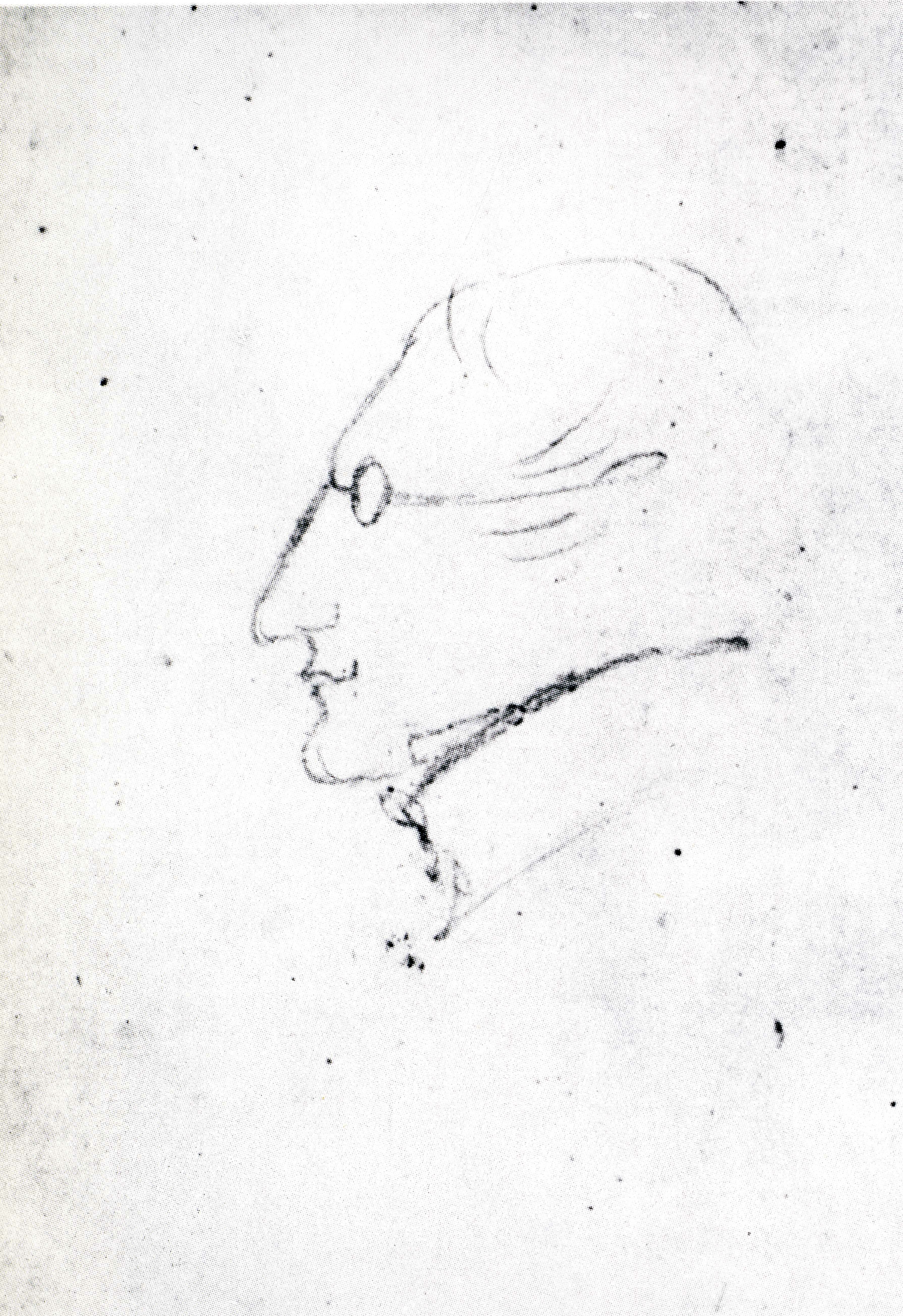
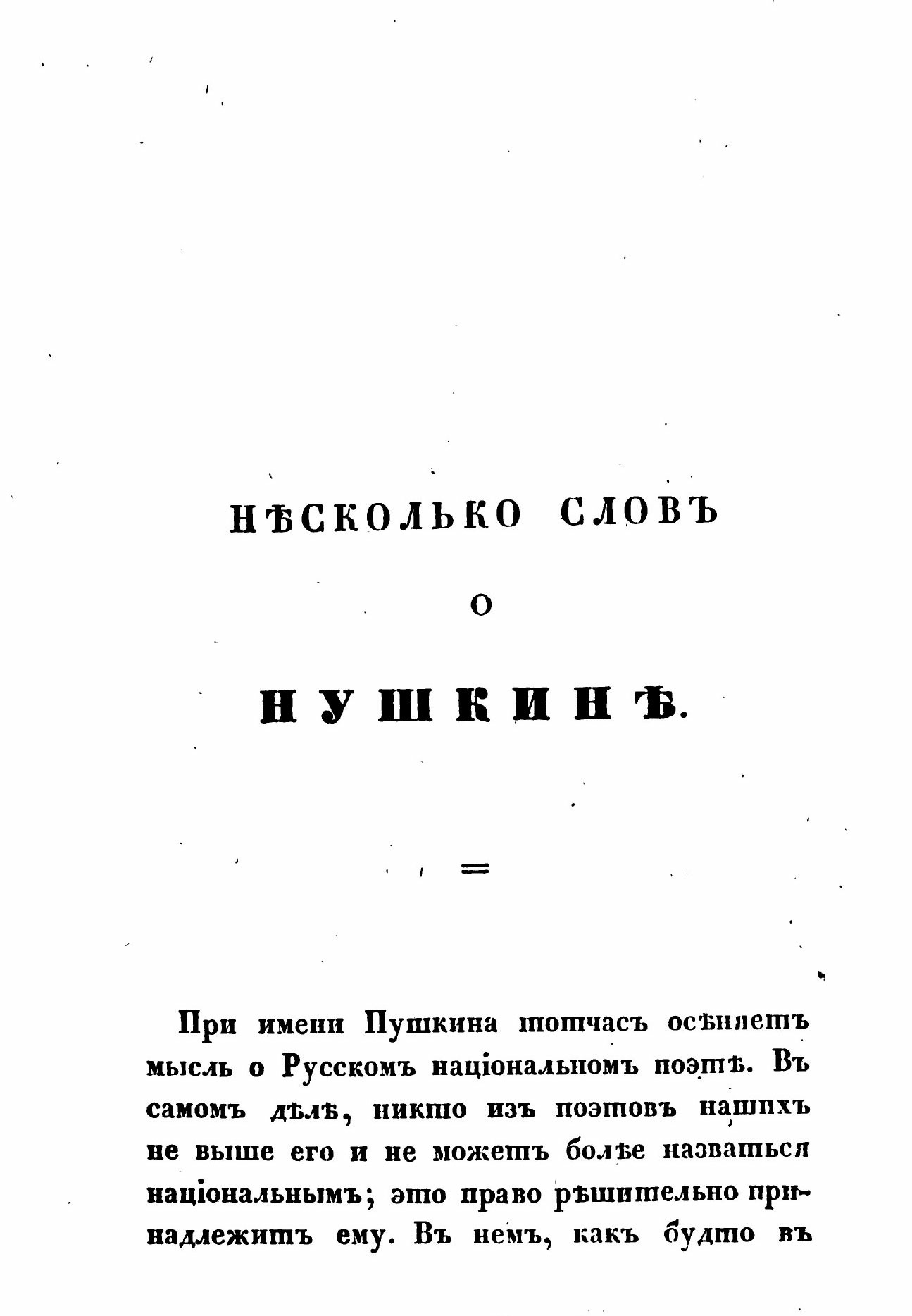



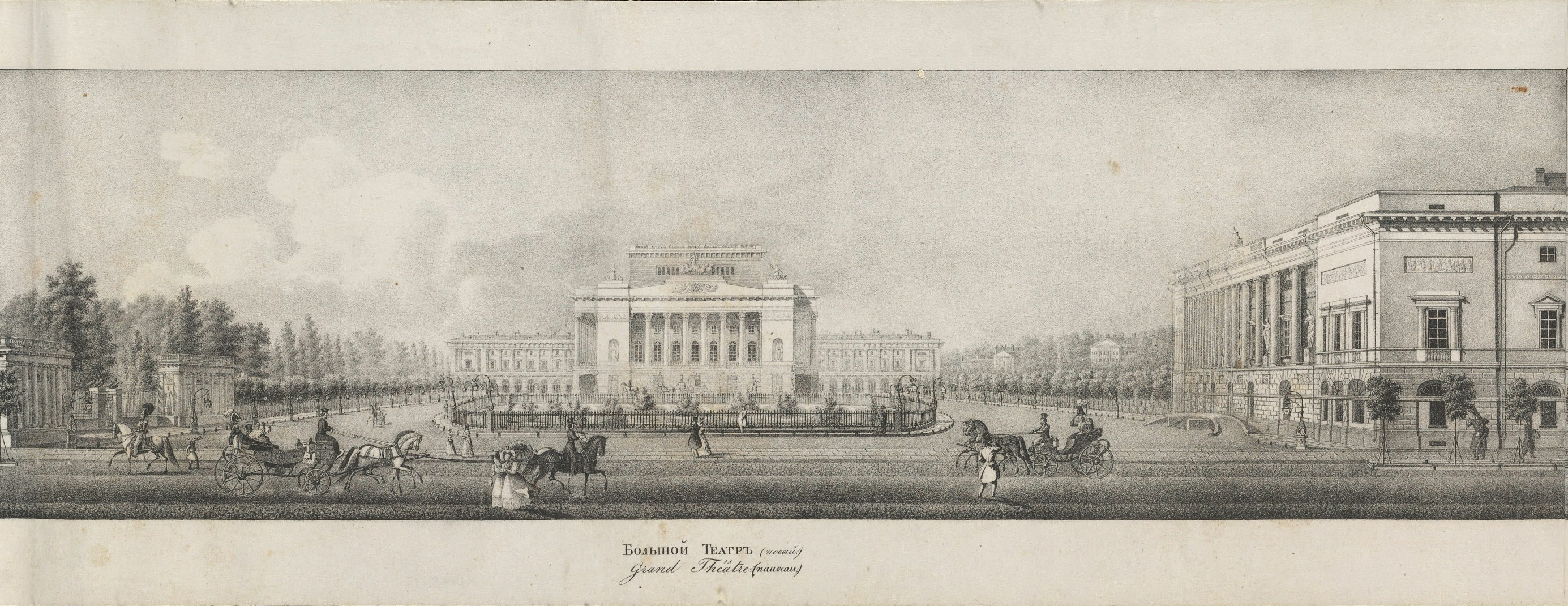











/Митрополит Тихон 8 марта.jpg)





