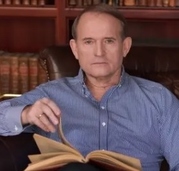Среди сначала благожелательных, а потом явно враждебных критиков таланта Н. В. Гоголя особое место принадлежит, конечно, В. Г. Белинскому. Место, занимаемое им, настолько значительно, что еще и теперь творчество Н. В. Гоголя мы воспринимаем через призму его критических статей и знаменитого «Письма» по поводу гоголевских «Выбранных мест из переписки с друзьями». Полезно в этой связи ознакомиться с тем, что написал он о первой миргородской повести – «Старосветские помещики». Предваряя наш разговор об этой повести, позволю себе длинную цитату из его статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя».
«Так сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости! – пишет Белинский. - Возьмите его «Старосветских помещиков»: что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают… Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, а между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Филемоном о его Бавкиде, сострадаете его глубокой, неземной горести и сердитесь на негодяя-наследника, промотавшего состояние двух простаков! И потом, вы так живо представляете себе актеров этой глупой комедии, так ясно видите всю их жизнь… Отчего это?... Оттого, что автор нашел поэзию и в этой пошлой и нелепой жизни, нашел человеческое чувство, двигающее и оживлявшее его героев: это чувство – привычка… О, привычка великая психологическая задача, великое таинство души человеческой.[1] Холодному сыну земли, сыну забот и помыслов житейских, заменяет она чувства человеческие, которых лишила его природа или обстоятельства жизни. Для него она истинное блаженство, истинный дар провидения, единственный источник его радостей и (дивное дело!) радостей человеческих! Но что она для человека в полном смысле этого слова? Не насмешка ли судьбы! И он платит ей свою дань, и он прилепляется к пустым вещам и пустым людям и горько страдает, лишаясь их! И что же еще? Г-н Гоголь сравнивает ваше глубокое, человеческое чувство, вашу высокую, пламенную страсть с чувством привычки жалкого получеловека и говорит, что его чувство привычки сильнее, глубже и продолжительнее вашей страсти, и вы стоите перед ним, потупя глаза и не зная, что отвечать, как ученик, не знающий урока, перед своим учителем!.. Так вот где часто скрываются пружины лучших наших действий, прекраснейших наших чувств! О бедное человечество! жалкая жизнь! И однако ж вам все-таки жаль Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны! вы плачете о них, о них, которые только пили и ели и потом умерли! О, г. Гоголь истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он и меня чуть не заставил плакать о них, которые только пили и ели и потом умерли!»[2]
Статья Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя» была опубликована в 1835 г. Спустя пять лет – в 1840 г. - Белинский возвращается к разбору «Миргорода» в статье, посвященной грибоедовской комедии «Горе от ума». Принципиальных отличий от предыдущей в ней нет, разве что характеристики персонажей стали помягче, да явно веет гегельянством, которым к тому времени проникся «неистовый Виссарион».
«Вы смеетесь, читая изображение незатейливой жизни двух милых оригиналов, - пишет Белинский, - жизни, которая протекает в ежеминутном «покушивании» разных разностей; вы смеетесь над этою простодушною любовию, скрепленною могуществом привычки и потом превратившеюся в привычку; но ваш смех весело добродушен, и в нем нет ничего досадного, оскорбительного; но вас поражает родственною горестью смерть доброй Пульхерии Ивановны, и вы после болезненно сочувствуете безотрадной горести старого младенца, апоплексически замершего душевно и телесно от утраты своей няньки, лелеявшей его бестребовательную жизнь и сделавшейся ему необходимою, как воздух для дыхания, как свет для очей, и вам, наконец, тяжело становится при виде ниспровержения домашних пенатов хлебосольной четы, которое произвел глупый племянник, приценявшийся на ярмарках к оптовым ценам, а покупавший только кремешки и огнивки. Отчего же так привязывают вас к себе эти люди, добродушные, но ограниченные, даже и не подозревающие, что может существовать сфера жизни, высшая той, в которой они живут и которая вся состоит в спанье или в потчеванье и кушании? Оттого, что это были люди, по своей натуре не способные ни к какому злу, до того добрые, что всякого готовы были угостить насмерть, люди, которые до того жили один в другом, что смерть одного была смертию для другого, смертию, в тысячу раз ужаснейшею, нежели прекращение бытия; следовательно, основою их отношений была любовь, из которой вышла привычка, укреплявшая любовь. Это любовь еще на слишком низкой ступени своего проявления, но вышедшая из общего, родового, вовеки не иссякающего источника любви. Это уже явление духа, хотя еще слабое и ограниченное, ступень духа, хотя еще и низшая; но уже явление не призрака, а духа, уже положение, а не отрицание жизни; - словом, своего рода разумная действительность».[3]
Вот, собственно, и всё, что увидел великий русский критик и гуманист в повести «Старосветские помещики». Не думаю, что он увидел бы в ней больше, даже если бы подверг ее скрупулезному текстологическому разбору – как он поступил, к примеру, с «Героем нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Кажется, у Белинского был напрочь атрофирован тот религиозный орган, который и сообщает зрению, художественному вкусу, литературоведческому анализу необходимую глубину. Атеистический скафандр[4] отрезал его – человека, бесспорно, одаренного, - от Бога: всю свою короткую литературную жизнь он скользил по поверхности и прославился только потому, что широта (именно широта и ни в коем случае не глубина) его кругозора, наблюдательность и способность к обобщениям вкупе с говорливостью намного превосходили те же способности современных ему собратьев по цеху.
«Многие беды свои Россия претерпела оттого, что просвещенное наше общество отказалось внять православной проповеди Гоголя, но слишком подпала под влияние деятелей (не сказать, мыслителей: мыслили они плохо), подобных Белинскому», - верно отмечает М. М. Дунаев.[5]
Итак, с точки зрения социалиста, образцового интеллигента-разночинца Белинского пожилые «старосветские помещики» Товстогубы – Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна – соединенные «привычкой» «две пародии на человечество»[6], которые живут почти растительной жизнью, т. е. только «едят и пьют, пьют и едят», и само собой понятно, что такая жизнь - «пошлая», «гадкая», «животная», «уродливая» и опять-таки «карикатурная»… Афанасий Иванович к тому же еще и «жалкий получеловек». Ничего хамского – хамского с библейской точки зрения – Белинский в своих характеристиках гоголевских персонажей не видит, не чувствует, но ведь это именно он ввел хамство в литературную повседневность, сделал ее допустимой и приемлемой: сперва в отношении литературных героев, а потом и живых людей.
Посмотрим теперь, неужели Гоголь дает повод к такого рода уничижительным характеристикам.
«Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плеснь, и лишенное щекотурки крыльцо не показывает своих красных кирпичей… Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя по крайней мере на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь. Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище, и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик — и ничего более. Грустно! мне заранее грустно!», - пишет Николай Васильевич, задавая, так сказать, тон дальнейшему повествованию.
«Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду[7], я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник верно бы украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о, слог въ. Нет, они не были похожи на этих презренных и жалких творений, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии».
Что карикатурного, животного, получеловеческого нашел в этом Белинский? Напротив, отметим мы, карикатурны те выскочки из низких малороссиян, о которых вскользь, одной фразой упоминает Гоголь и которым противопоставляет он национальную фамилию Товстогубов.
Супружеская чета обитает в месте, весьма похожем на райский сад.
«Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и те неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами, воз с дынями, стоящий возле амбара, отпряженный вол, лениво лежащий возле него, — всё это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило всё то, с чем мы в разлуке».
В этот обнесенный частоколом райский сад действительно нет доступа «порождениям злого духа, возмущающим мир»: нерушимый покой, полная безмятежность царят в этом Божием царстве.
«Самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам», - сообщает Гоголь немаловажную деталь.
Гоголь вообще мастер детали, незначительного, кажется, наблюдения, которые внезапно приоткрывают нечто чрезвычайно важное, онтологически значимое.
Кто не слышал дикого переполоха, подымаемого всевозможными собаками при прибытии в деревню нового человека! И кому может быть приятен такой переполох? Но Гоголь нисколько не преувеличивает крепости своих нервов – вне обыденности, вне мира с его тревогами и треволнениями и собачий переполох может ласкать слух.
И другой еще знак подает внимательному читателю Николай Васильевич:
«Но самое замечательное в доме — были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели; перержавевшие ли петли были тому виною, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет; но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос; дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь, ведшая в столовую, хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось: батюшки, я зябну! Я знаю, что многим очень не нравится сей звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрып дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей… и Боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!»
Не один приятный уху собачий лай указывает на нечто особенное, касаемое месторасположения помещичьего дома. В доме этом, оказывается, существуют поющие двери. Другими словами, то, что в обычном мире ничего, кроме раздражения вызвать не может – скрипение дверных петель, например, - здесь воспринимается совершенно иначе: как разноголосица, но не режущая слух, а – почти музыкальная, песенная, способная умиротворить, а не взбудоражить… Мир, в котором живут Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна – это мир-песня, мир-поэзия, мир, в котором каждый предмет и каждое живое существо наделены своим особым, неповторимым голосом, и все эти голоса в конечном счете сливаются в могучую и прекрасную симфонию торжества жизни.
Необыкновенный достаток царит в этом райском уголке.
«Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя впрочем ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу; всё бремя правления лежало на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонею вечно был разложен огонь; и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желем, пастилою, деланными на меду, в сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, они потопили бы наконец весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила приготовлять еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои. В хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с войтом, обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, наделывали из них множество саней и продавали их на ближней ярмарке; кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним козакам… Эти достойные правители, приказчик и войт, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские амбары; а что с бар будет довольно и половины; наконец и эту половину привозили они заплесневшую или подмоченную, которую обраковали на ярмарке. Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок, и часто собственною мордою толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, сколько ни клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня ни носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотна и пряжу, чтό всё обращалось к всемирному источнику, т. е. к шинку, сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи, — но благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве».
Отметим здесь, что самая водка производилась не пьянства окаянного ради, а исключительно в видах здоровья:
«Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске. «Вот это, - говорила она, снимая пробку с графина, - водка, настоянная на деревий и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то она очень помогает. Вот это на золототысячник: если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот эта перегнанная на персиковые косточки, вот возьмите рюмку, какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкапа или стола, и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом — и всё как рукой снимет, в ту же минуту всё пройдет, как будто вовсе не бывало». После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства».[8]
В покое и уединении, при полном достатке протекала блаженная жизнь старосветских помещиков. Вот что сообщает о них Гоголь:
«Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник верно бы украл их».
Были они необычайно гостелюбивы – это обстоятельство, возводящее нас к гостеприимству Авраама, удостоенного посещения самой Пресвятой Троицы, подчеркивает Гоголь.
«Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Всё, что у них ни было лучшего, всё это выносилось. Они наперерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствие чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ. Это радушие вовсе не то, с каким угощает вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелем и ползающий у ног ваших. Гость никаким образом не был отпускаем того же дни: он должен был непременно переночевать.
- Как можно такою позднею порою отправляться в такую дальнюю дорогу! - всегда говорила Пульхерия Ивановна (гость обыкновенно жил в трех или в четырех от них верстах).
- Конечно, - говорил Афанасий Иванович, - неравно всякого случая: нападут разбойники или другой недобрый человек.
- Пусть бог милует от разбойников! - говорила Пульхерия Ивановна. - И к чему рассказывать эдакое на ночь. Разбойники не разбойники; а время темное, не годится совсем ехать. Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера, он такой тендитный да маленький, его всякая кобыла побьет; да притом теперь он уже, верно, наклюкался и спит где-нибудь.
И гость должен был непременно остаться; но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий и усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанья, всегда питательного и мастерски сготовленного, бывает для него наградою. Я вижу как теперь, как Афанасий Иванович согнувшись сидит на стуле с всегдашнею своею улыбкой и слушает со вниманием и даже наслаждением гостя!»
Афанасий Иванович, пишет Гоголь, «не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового».
Происходило это от того, что помещичий дом находился словно вне времени
«Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие в обстоятельствах вашей собственной жизни, удачах и неудачах, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою».
Любовь, перешедшая в самую нежную дружбу, навсегда соединила Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну. Именно любовь, а не привычка, о которой так вдохновенно писал Белинский, ничего в любви, как видно, не понимавший и потому ею обойденный.
«Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы: вы, Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» — «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточилась в них самих».
Два примечания здесь необходимо сделать.
Во-первых, обращение на «вы», которое подразумевает не только уважительность, почтение друг к другу, но и собственно «нас», «тех, которые вместе». «Вы» - это множественное число, как и «мы», и подчеркивает соборность существования двух людей, в то время, как «ты» - индивидуалистично, подчеркивает обособленность одного от другого, разъединяет, разобщает.
Во-вторых, отсутствие детей указывает на то, что чистота брачных отношений являлась основой любви Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, не замешанной ни на чем чувственном. Такова была, например, брачная жизнь святого праведного Иоанна Кронштадтского с супругой…
О силе и глубине этой любви свидетельствует сама тихая кончина Пульхерии Ивановны.
Описанию ее кончины предшествует важная ремарка Гоголя, снова возвращающая нас к мысли об историософичности всего миргородского цикла, к тому, что в первой повести речь идет именно о блаженном состоянии первых людей, описывается «золотой век».
«Повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого маловажного случая. Но по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события и, наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями», - пишет Гоголь.
Действительно, однажды ничтожное само по себе событие – женщина попробовала запретного плода – вызвало катастрофу, изменившую навсегда блаженную жизнь первой человеческой пары.
Ничего подобного, конечно, не делала Пульхерия Ивановна. Праведники часто бывают прозорливы: Господь открывает им день и час их смерти.
В исчезновении любимой кошки Пульхерия Ивановна почувствовала первое дуновение смерти.
«Весь день она была скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила: Пульхерия Ивановна была безответна, или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела.
- Что это с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?
- Нет, я не больна, Афанасий Иванович! Я хочу вам объявить одно особенное происшествие: я знаю, что я этого лета умру: смерть моя уже приходила за мною!
Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел однако ж победить в душе своей грустное чувство и улыбнувшись сказал:
- Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна! Вы, верно, вместо декохта, что часто пьете, выпили персиковой.
- Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой, - сказала Пульхерия Ивановна.
И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной, и он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице».
А дальше следует любовный разговор, равного которому нет во всей мировой литературе.
Существует мнение, что Гоголь не умел писать о любви и ничего почти о ней не писал. Какое заблуждение! Гоголь действительно почти ничего не писал о любви плотской, телесной, «земной», но зато как написал он о подлинной, самозабвенной, жертвенной, «небесной» любви двух стариков!
« - Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю, - сказала Пульхерия Ивановна. - Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое, то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня: мертвой уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится: из него сошьете себе парадный халат на случай когда приедут гости, то чтобы можно было вам прилично показаться и принять их.
- Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна! - говорил Афанасий Иванович, - когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами.
- Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы однако ж не горюйте за мною: я уже старуха, и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро увидимся на том свете.
Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок.
- Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и Бога не гневите своею печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я (тяжелый вздох прервал на минуту речь ее): я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любило вас то, которое будет ухаживать за вами.
При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно…»
Какое поразительно смиренное принятие неизбежного: смиренное, и, вместе с тем, безбоязненное. Именно эта безбоязненная отрешенность от жизни Пульхерии Ивановны исподволь напоминает, что не в обычном месте и не в обычное время всё происходит…
«… - Смотри мне, Явдоха, - говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать, - когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как глаза своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит. Чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то пожалуй он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто позабывает он, когда бывает праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз, Явдоха, я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Явдоха, ты уже стара, тебе не долго жить, не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастия на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божия.
Бедная старушка! она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни; она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенною расторопностию распорядила всё таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна, и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно чрез несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» - говорил он, с беспокойством смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами — и дыхание ее улетело».
Ни исповеди, ни последнего причастия Гоголь, обычно чрезвычайно чуткий к такого рода вещам, не описывает. Вообще существование Церкви предполагается в «Старосветских помещиках», но внимание на ней нигде не акцентируется: в мире Божьем – пока – всё благополучно, и семейство Товстогубов и есть та малая Церковь, где посреди двоих, собравшихся во имя Божие, пребывает Христос. Мы в дальнейшем рассмотрим подробно, как описывается Церковь в других повестях миргородского цикла.
После смерти Пульхерии Ивановны Афанасий Иванович был безутешен.
«Когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен — он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей».
И время не исцелило раны.
«По истечении сказанных пяти лет после смерти Пульхерии Ивановны, я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее, крестьянские избы совсем легли набок, без сомнения, так же, как и владельцы их; частокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу, те же самые барбосы и бровки, уже слепые, или с перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверх свои волнистые, обвешанные репейниками, хвосты…»
Райский уголок начинает ветшать, изнашиваться.
«…Навстречу вышел старик. Так это он! я тотчас же узнал его; но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с тою же знакомою мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты; казалось, всё было в них по-прежнему; но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то; словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые одолевают нами, когда мы вступаем первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным[9] с подругою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи тогда, когда видим перед собою того человека, которого всегда знали здоровым, без ноги. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны: за столом подали один нож без колодочки; блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения. Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою, и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости, он слушал с тою же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не разбродились, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашею, вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу, вилку свою, вместо того, чтобы вонзить в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил: «Что это так долго не несут кушанья?» Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюда, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью. «Вот это то кушанье, - сказал Афанасий Иванович, когда, подали нам мнишки со сметаною, - это то кушанье, - продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. - Это то кушанье, которое по… по… покой… покойни…», - и вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил его всего; он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно точущий фонтан, лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку. Боже! думал я, глядя на него: пять лет всеистребляющего времени — старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов — и такая долгая, такая жаркая печаль? Что же сильнее над нами: страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей — есть только следствие нашего яркого возраста, и по тому одному только кажутся глубоки и сокрушительны? Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастия: это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу; нет! это были слезы, которые текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца».
Возвращаясь к Белинскому, снова зададимся вопросом: не прав ли критик, только повторяя уже сказанное Гоголем о силе привычки? Но в том-то и дело, что очерствелая современность совершенно утратила способность к какому-либо различению человеческих чувств и запуталась так, что любовью называет половое влечение совершенно обособленных людей. На это указывает Гоголь. Он судит век минувший с позиций века наступившего, намекая – со свойственной ему тонкостью – на неправоту такого суда. Умный – поймет.
После визита автора к старику, тот недолго прожил.
«Странно однако же то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиною Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенною своею беспечностию, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: Афанасий Иванович! Он оборотился, но никого совершенно не было, посмотрел во все стороны, заглянул в кусты — нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался; лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня!»… Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны», вот всё, что произнес он перед своею кончиною. Желание его исполнили и похоронили возле церкви, близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество».
Блаженная жизнь завершилась блаженной кончиной.
По смерти Афанасия Ивановича рушится безмятежный покой райского уголка.
«Скоро приехал, неизвестно откуда, какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор.[10] Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах; всё это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер, и наконец так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку. Мудрая опека (из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире) перевела в непродолжительное время все куры и яйцы. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частию числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно с своею опекою и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал не долго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии; тщательно осведомляется и применивается к ценам на разные большие произведения, продающиеся оптом, как-то: муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как-то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще всё то, что не превышает всем оптом своим цены одного рубля».
Обозначим коротко те признаки (или черты, особенности) «золотого века», которые описаны Гоголем в повести «Старосветские помещики».
Во-1-х, действие происходит в райском уголке, где царят покой и безмятежность. Уютный маленький домик с поющими дверями, цветущий сад, не нуждающийся в уходе, многочисленная домашняя живность – всё это является некой изначальной данностью: полный достаток, на достижение которого не прилагается никаких усилий.
Во-2-х, обитатели райского уголка подлинно блаженны. Они целомудренны, покойны, гостелюбивы, добродушны, смиренны, прозорливы и органически привязаны друг к другу взаимным загадочным чувством, которое Гоголь лукаво называет привычкой, противопоставляет страсти и которое является настоящей, подлинной, основанной на полном самозабвении любовью.
В-3-х, в повести предполагается, но по существу отсутствует Церковь, хотя читателю очевидна набожность Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. Тем самым, на наш взгляд, Гоголь дает понять, что Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна и есть та самая древняя, первобытная Церковь, имеющая непосредственное общение с Богом…
[1] На этот пассаж – с претензией на глубокое знание человеческой психологии – Гоголь ответил не вдруг, но ответил. Правда, очень косвенно и без намерения делиться с кем бы то ни было своими взглядами. Но именно ответом Белинскому звучит ремарка, сделанная Гоголем на книге св. Исаака Сирина: «Здравая психология и не кривое, а прямое понимание души встречаем у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетённой немецкой диалектике молодые люди, - не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимание природы души». (Цит. по: Дунаев М. М. Православие и русская литература. – Ч. ч. I-II – М.: «Христианская литература», 2001 – С. 488).
[2] Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу - М.: «Современник», 1983 – С. 134-135.
[3] Белинский В. Г. Собрание сочинений в девяти томах – Т. 2 – М.: «Художественная литература», 1977 – С. 209-210.
[4] «Горе, тяжелое горе овладевает мною при виде босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкою чиновника, и довольного собою офицера, и гордого вельможу, подавши грош солдату, я чуть не плачу, подавши грош нищей, я бегу от нее, как будто сделавши худое дело и как будто не желая слышать шелеста собственных шагов своих. И это жизнь: сидеть на улице в лохмотьях, с идиотским выражением на лице, набирать днем несколько грошей, а вечером пропить их в кабаке – и люди это видят, и никому до этого нет дела!... Я ожесточен против всех субстанциальных начал, связывающих в качестве верования волю человека! Отрицание – мой бог… Рассудок для меня выше разумности (разумеется – непосредственной), а потому мне отраднее кощунства Вольтера, чем признание авторитета религии, общества, кого бы то ни было!», - писал В. Г. Белинский В. П. Боткину 8 сентября 1841 г. (Цит. по: Застрожнова Е. М. «Маленький человек» в свете христианской традиции (от Гоголя к Достоевскому). – М.: ТЕИС, 2004 – С. 60-61).
[5] Дунаев М. М. Православие и русская литература. – Ч. ч. I-II – М.: «Христианская литература», 2001 – С. 477.
[6] Обращаю ваше внимание: именно две, а не одна. Разобщение, разделение двуединого существа – в самой сердцевине либерально-демократической доктрины, и уже здесь Белинский врёт: Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна были именно одним существом, ипостасно соединенным столь тесно, что смерть одного неминуемо повлекла смерть второго.
[7] Филемон и Бавкида – персонажи древнегреческой мифологии, богобоязненные и гостеприимные праведники (еще одно неслучайное обстоятельство), именно за праведность спасенные богами во время всемирного потопа.
[8] Мысль Н. В. Гоголя, явленная прикровенно, станет яснее, если приведенный отрывок сравнить с фрагментом известного романа Н. С. Лескова «На ножах». Беседуют нигилист Висленев и священник отец Евангел.
«… - А я, каюсь вам, не люблю России.
- Для какой причины? – спросил Евангел.
- Да что вы в самом деле в ней видите хорошего? Ни природы, ни людей. Где лавр да мирт, а здесь квас да спирт, вот вам и Россия.
Отец Евангел помолчал, нарвал горсть синей озими и стал ею обтирать свои запачканные ноги.
- Ну, природа, - заговорил он, - природа наша здоровая. Оглянитесь хоть вокруг себя, неужто ничего здесь не видите достойного благодарения?
- А что же я вижу? Вижу будущий квас и спирт, и будущее сено!
Евангел опять замолчал и наконец встал, бросил от себя траву и, стоя среди поля с подоткнутым за пояс подрясником, начал говорить спокойным и тихим голосом:
- Сено и спирт! А вот у самых ваших ног растет здесь благовонный девясил, он утоляет боли груди; подальше два шага от вас, я вижу огневой жабник, который лечит черную немочь; вон там на камнях растет верхоцветный иссоп, от удушья; вон ароматная марь, против нервов; рвотный капытень; сон-трава от прострела; кустистый дрок; крепящая расслабленных алиела; вон болдырян, от детского родилища, и мадрагары, от которых спят убитые тоской и страданием. Теперь, там, на поле, я вижу траву гулявицу отсудорог; на холмике вон Божье деревцо; вон львиноуст от трепетанья сердца; дягиль, лютик, целебная и смрадная трава омен; вон курослеп, от укушения бешеным животным; а вон там по потовинам луга растет ручейный гравилат от кровотока; авран и многолетний крин, восстанавливающий бессилие; медвежье ухо от перхоты; хрупкая ива, в которой купают золотушных детей; кувшинчик, кукушкин лён, козлобород… Не сено здесь, мой государь, а Божья аптека». (Лесков Н. С. Собрание сочинений. – Т. 8 – М., 1989 – С. 202 // Цит. по: Дунаев М. М. Православие и русская литература. – Ч. 4 – М.: «Христианская литература», 2003 – С. 429-430).
Речь идет, конечно, не просто о разности мировосприятий, на что только намекнул Гоголь, а о разности – полярной разности – культур: эвдемонической, потребительской, очень узкой и аскетической, сберегающей, широкой. Многое откроется, если с этой точки зрения взглянуть на знаменитые гоголевские пейзажи в «Тарасе Бульбе»…
[9] Ведь вот какое славное, верное, характерное слово нашел Гоголь, чтобы обозначить семейное качество, существовавшее когда-то, и почти утраченное сейчас. Гоголь мастерски обыгрывает это важнейшее качество, сравнивая его – всего абзацем выше – с современной разделенностью людей: «Пять лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним? Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств, я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и при мне, при моих глазах почти, предмет его страсти — нежная, прекрасная, как ангел — была поражена ненасытною смертию. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду… Его старались не выпускать с глаз; от него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. Две недели спустя, он вдруг победил себя: начал смеяться, шутить; ему дали свободу, и первое, на что он употребил ее, это было — купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в его комнату и увидели его распростертого с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельною, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле его ножа и старались удалить всё, чем бы мог он себя ударить; но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растрощило руку и ногу; но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале: он сидел за столом, весело говорил: петит-уверт, закрывши одну карту, и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки».
[10] Только в восхищение может привести удивительное чувство языка у Гоголя. Реформатор именно страшный – иным он не может быть. Каким другим словом можно обозначить разрушителя Рая?