Волнующие события нашей спецоперации по денацификации Украины своей очевидной актуальностью отодвинули на второй план изложение событий войны Первого Рима с Карфагеном за гегемонию в тогдашней ойкумене. Но эта задержка позволила автору по-новому взглянуть на события той давней войны, и найти в ней несомненные аналогии с нынешней войной уже Третьего Рима с Карфагеном современным, для которого та же Украина является лишь орудием в его вечной войне против Вечного Рима.
Более того, понимание глубинной сущности победы Рима в той войне, ‒ войне за саму возможность его существования, ‒ будет очень полезно для понимания значения текущего сражения глобальной войны за существование уже Третьего Рима, и уяснения необходимого условия для одержания нами победы в этой войне.
II
Утрата Римом главенства на море
Хроники 1-й Пунической ‒ 255-247
Постараемся по возможности кратко и, соблюдая нащупанную нами хронологическую последовательность, изложить связь событий оставшихся лет этой столь затянувшейся войны. Делая понятный акцент на ее морской составляющей, поскольку именно «перехват управления» морскими просторами тогдашней Ойкумены и был главным содержанием 1-й Пунической.
Контроль над этими просторами очень облегчает государству, которому Господь уготовал бремя «удерживающего» мировое зло, нести это бремя на своих плечах.
Скажем сразу, что в эти полтора оставшихся десятилетия войны дела наши на суше шли в целом лучше, чем на морях.
[Написав слова «дела наши» вместо следуемых «дела римские», первоначально хотел сразу заменить, но потом решил, что по сути – это одно и то же.
Ведь мы все-таки Третий Рим. А значит наша истинная история ‒ не просто история от Рюрика, князя Владимира Крестителя или от Флорентийской унии, (и тем более не от каких-то малопонятных русов якобы пятитысячелетней древности, ничего ценного для «матери-истории» до того же Рюрика из себя не представивших). Но именно Римская история, история Вечного Рима в целом – от Троянской войны, царевича Энея и царской династии Дарданов.
А потому Пунические войны Рима с тогдашней «штаб-квартирой» мамоны, являются такой же актуальной частью нашей отечественной истории, как войны Святослава, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Петра Великого, как Отечественные войны 1812 и 1941-45 годов, как на наших глазах происходящая спецоперация по зачистке исторических российских территорий от нацизма, ‒ одного из современных вариантов сатанизма, порожденного той же самой неизменной мамоной].
Возвращаясь к сухопутным и морским сражениям второй – длинной половины Первой Пунической войны, отметим, что практически все сухопутные бои велись на Сицилии – основном театре военных действий этой войны, а морские – в прибрежных водах Сицилии, как, впрочем, и знаменитые и хорошо нам известные сражения при Милах и Экноме. Хронологию войны изложим по годам, сопровождая дату именами консулов, как это и было принято в Риме тех лет.
Сицилия становится центром боевых действий. 254-249 годы
254 год. КОНСУЛЫ: Гней Корнелий Сципион Азина - Авл Атилий Калатин
Взятие римлянами Панорма
Неудача не приходит одна. После гибели римской армии Регула при Тунете и гибели флота у Сицилии, уже карфагенцы смогли перебросить свои войска в Сицилию.
Разведка работала и карфагенцы сразу же узнали о несчастье, постигшем их противников, впрочем, гибель флота и не скроешь. В этой ситуации они оперативно отослали на Сицилию корпус Гасдрубала бен Ганнона, одного из героев битвы при Тунете 255 года, усилив его войско 140 боевыми слонами. Учитывая «слонобоязнь» римлян после той несчастной битвы, подкрепление это было серьезным.
Для переправы корпуса Гасдрубала на остров оказалось достаточно уцелевших после разгрома у Гермесова мыса кораблей (их было, во всяком случае, не менее 75 единиц) и имевшихся всегда под рукой транспортов. Плюс к числу боевых кораблей пунийцы оперативно ввели в строй еще двести пентер.
Гасдрубал высадился в Лилибее, вновь ставшем главной базой флота на Сицилии, и занялся военной подготовкой и различными учениями, готовя людей и слонов к будущему генеральному сражению с римлянами. Этим он без излишнего фанатизма и занимался ближайшие три года.
Римляне с похвальной быстротой ликвидировали бреши в составе флота, нанесенные штормом. За три месяца зимы 255-254 годов римский военный флот пополнился 220 новенькими кораблями. В сочетании с 80 кораблями, уцелевшими в шторм и отремонтированными в Мессане, это судостроительное достижение позволило Риму вновь довести состав действующего флота до 300 вымпелов.
К сезону 254 флот был полностью укомплектован и приступил к боевым действиям. Командовали им, как водится, избранные на этот год консулы, из которых нам знаком Гней Корнелий Сципион Азина ‒ «герой» первого морского столкновения при Липарах в 260 году.
Главной операцией флота в 254 года стали действия под Панормом. Соединение «новичков» и ветеранов произошло в Мессане, куда перебазировались из Остии и южноиталийских городов 220 новопостроенных судов с консульской армией. Из Мессаны соединенная эскадра и отправилась на запад, к Панорму ‒ сегодняшнему Палермо. Этот город был крупнейшим из населенных пунктов принадлежавшей карфагенянам части острова.
Осада города была предпринята массированная и квалифицированная. Флот Рима блокировал город с моря и высадил войска в его окрестностях. Между тем карфагенский флот, уже отбивший у римлян Коссуру, эту блокаду пытался пробить.
Однако, угроза прорыва была немедленно пресечена. Корабли консульской эскадры доставили также под стены города осадную технику. «В двух местах римляне возвели осадные сооружения, затем подвезли машины. Находившаяся у моря башня скоро разрушилась; тогда солдаты силою проложили себе путь в Панорм, и так называемый новый город взят был приступом.
Та же участь грозила и той части города, которая называется старым городом, поэтому жители скоро сдали ее неприятелю»[1].
Панорм пал достаточно быстро, и, оставив в городе свой гарнизон, римские консулы отплыли назад в Остию и Рим. Падение Панорма имело следствием переход на сторону Рима сразу нескольких городов, в том числе Тиндарида, Иеты, Сола, Петры, Имахары.
На всем севере Сицилии под контролем карфагенян оставались лишь Термы.
253 год. КОНСУЛЫ: Гней Сервилий Цепион - Гай Семпроний Блез
Ливийский рейд ‒ флот садится на мель у Сирта
Новый этап операций против африканских владений Карфагена начался в 253 году. Новыми командующими были назначены вышеуказанные консулы 253 года. Флот, доверенный им в составе 260 кораблей, прибыл на Сицилию в Панорм. Затем консулы предприняли некие действия против базы карфагенского флота Лилибея. Речь пока не шла о штурме, имела место своего рода разведка боем и высадка небольших десантов вблизи города.
Лилибей на тот год не был для консулов главной целью, и, покинув Сицилию, флот отправился к берегам Ливии. Достигнув африканского побережья, консулы двинулись вдоль берега существенно южнее Гермесова мыса.
Экспедиция в Африку 253 года
«Проходя вдоль берега, они делали очень частые высадки, в которых, однако не совершили ничего замечательного; наконец пришли к острову, именуемому Менингом и лежащему в небольшом расстоянии от Малого Сирта.
По незнанию римляне попали там на мелкое место, а когда с наступлением отлива корабли сели на мель, положение их стало весьма затруднительно»[2].
Остров Менинг лежал весьма далеко от привычных римлянам пределов. Так далеко они еще не забирались и до сих пор неясно, зачем забрались в этот раз. Зона Сирта и сейчас считается опасной для судоходства. Странно, что этого не знали кормчие консульского флота.
Неподалеку от острова большинство кораблей встало на якорь на мелком месте. Когда начался отлив, корабли оказались на отмели, и плотно на нее сели. Окажись рядом карфагенский флот, рейд бы на этом и закончился. Однако карфагенцы, отправив Гасдрубала на Сицилию, похоже, успокоились и никак на появление римского флота не среагировали.
Поэтому во время прилива удалось снять с мели застрявшие суда, пожертвовав при этом всем приобретенным непосильными трудами во время грабежа побережья имуществом, выбросив его своими руками за борт. Можно представить себе досаду личного состава!
Затем не мешкая сели на весла, возможно поставив еще в помощь гребцам паруса, и в темпе, по словам Полибия, похожем на бегство, вернулись в Панорм, обогнул Сицилию с запада.
Гибель флота у берегов Лукании
Пробыв в Панорме несколько дней, консулы отправились домой, в Остию. Стремясь сэкономить время и избежать долгого, хотя и сравнительно безопасного навигационно, пути между Липарами и Сицилией, а затем вдоль побережья Италии, консулы вновь решили рискнуть и пустились в плавание через открытое море. Риск в данном случае благородным делом не оказался, и стоил консулам большей части вверенного им флота.
Финальный этап экспедиции в Африку 253 года
В непосредственной близости от берегов Лукании налетел шторм, в котором было потеряно 150 кораблей, то есть почти две трети корабельного состава. Потери личного состава составили порядка 60 тысяч человек. [Что не помешало консулу Гаю Семпронию Блезу получить триумф «за победу над карфагенянами» по результатам совершенного рейда. Любопытно было бы узнать у господ сенаторов, какой именно из описанных выше результатов они сочли за таковую].
Этот новый удар судьбы поверг римлян в шок. Как будто морские боги стали на сторону их врагов, уничтожая плоды так тяжко достигнутых побед. Водная стихия явно не хотела покоряться будущим властителям Ойкумены.
Временный конец «политики больших эскадр»
В ходе всего двух кампаний 255 и 253 годов в результате двух штормов Римом было потеряно более 430 кораблей. Людские потери по объективным оценкам могли достигать 180 тысяч человек. Это был страшный урон, даже если не учитывать потери имущества, находившегося на кораблях. Кроме того, нельзя не принять во внимание, что ставшее традиционным пренебрежение римских консулов к рекомендациям греческих штурманов явно не поднимало их авторитета и могло привести к глухому, а то и открытому недовольству последних.
[Хотя, справедливости ради следует признать, что в той же посадке флота на мель у Сирта вина кормчих несомненно превышает таковую консулов.
Так что претензии могли быть взаимны].
В общем, в римской военно-морской политике наступил явный кризис, несмотря на отчетливое преобладание Рима на море в предшествующий период. Экономика республики была серьезно подорвана снаряжением гигантских флотов, и сенат вынужден был временно откровенно отдать море карфагенянам.
Именно в контексте этой новой политики все усилия были сведены к решению конкретной задачи ‒ окончательному утверждению на Сицилии.
252 год. КОНСУЛЫ: Гай Аврелий Котта - Публий Сервилий Гемин
Наступление на суше ‒ Аврелий Котта берет Термы и Липару
Консулы 252 года возобновили наступление на суше. Аврелий Котта возглавил армию, действовавшую на Сицилии. Он взял город Термы, последний опорный пункт карфагенян на северном побережье острова, а затем высадился на Липарских островах и осадил город Липары. Для успешности осады к оставшимся судам римского флота он присоединил корабли, данные ему по его просьбе сиракузским тираном Гиероном. Вскоре Гаю Аврелию понадобилось отлучиться в Мессану, чтобы по должности совершить новые ауспиции.
3
Во главе армии он поставил своего родственника, военного трибуна Публия Аврелия Пекуниолу. Однако родственник высокого консульского доверия не оправдал. За время отсутствия руководства противник смог «почти захватить» римский лагерь и поджечь лагерный вал.
Возмущенный Котта по возвращении приказал высечь трибуна розгами, разжаловать в рядовые и приставить к самой черной работе[3]. А между прочим, военный трибун, это считай – полковник. Как видим, дисциплина в римской армии поддерживалась по-прежнему на высоте.
Липара вслед за тем пала, решив видно не связываться с суровым консулом, а Гай Аврелий в том же году вернулся в Рим, где был удостоен триумфа. На сей раз вдвойне заслуженного.
Во второй раз Котта получил консулат в 248 году, и опять его коллегой был Публий Сервилий Гемин, а консулом следующего года, как и в первый консулат Гая Аврелия, был Луций Цецилий Метелл, разгромивший в свой первый консулат 251 года корпус Гасдрубала бен Ганнона. Об этом следующий рассказ.
251 год. КОНСУЛЫ: Луций Цецилий Метел - Гай Фурий Пацил
Сражение при Панорме
Помня о том, какое побоище устроили слоны карфагенян пехоте Регула, римские военачальники в кампаниях 254-252 годов упорно избегали не только полевых сражений, но даже открытой местности, сосредоточившись на осадах крепостей. Под римский контроль перешли Панорм, Термы, Ферма и Липары.
Гасдрубал бен Ганнон в эти кампании также в бой не рвался, продолжая готовить потихоньку людей и слонов к генеральному сражению. К 251 году Гасдрубал счел подготовку в целом достаточной. А поскольку, решил он, римляне еще не скоро осмелятся противостоять ему в полевом сражении, это дает прекрасную возможность самому прогуляться по вражеским территориям. Людей, так сказать, посмотреть и слонов показать.
Целью наступления Гасдрубал выбрал округу Панорма, где на полях дозревал хлеб союзников римлян. На беду себе, бен Ганнон не подозревал что в отличие от консулов прошлых лет, консул Цецилий Метелл, командующий расквартированной в Панорме римской армией, как раз мечтает о решительном бое, и готов на все для осуществления этой мечты.
Метелла не смутил даже отзыв в Италию половины его легионов вместе с его коллегой по консульству сего года Гаем Фурием Пацилом. Напротив, он резонно предположил, что сам факт перевода «на материк» половины сицилийских войск Рима, послужит спусковым крючком к началу активных действий со стороны Гасдрубала. Так оно и произошло.
Узнав, что у противника сил стало вдвое меньше Гасдрубал «быстро выступил со всем войском из Лилибея и разбил лагерь на границах панормской области.
Цецилий замечал самоуверенность Гасдрубала, и с целью вызвать его на решительные действия не выводил своего войска из города»[4].
Дабы раньше времени не спугнуть неприятеля, Метелл не препятствовал учиняемым пунийцами грабежам и потравам, что укрепило Гасдрубала в мысли о своей полной безнаказанности. Все ближе подходили карфагеняне к Панорму, а римляне продолжали бездействовать.
Наконец, когда Гасдрубал перевел своих воинов через ближайшую к городу реку, их атаковали римские стрелки и метальщики, заставив тем самым построиться для правильного боя.
Именно этого консул и добивался.
Получив подкрепления, римская легкая пехота продолжила засыпать карфагенян стрелами, камнями и дротиками, от которых прежде всего страдали слоны.
Основные силы Метелл по-прежнему держал в городе у ворот, непрерывно снабжая стрелков боеприпасами и пополняя их ряды свежими отрядами.
Армия Гасдрубала попыталась опрокинуть их, под ее натиском римляне отступили к самому городу. Как только вырвавшиеся вперед пунийские слоны оказались в зоне досягаемости стрелков, стоящих на городской стене, на них обрушился такой ливень метательных снарядов, что обезумевшие от боли животные устремились обратно, топча своих.
Не пытаясь восстановить порядок, карфагенцы начали отступать, неся значительные потери.
В этот момент Метелл вывел из города остальные силы и атаковал левый фланг карфагенян, превратив их отступление в почти повальное бегство. Количество погибших воинов Карфагена оценивалась античными авторами в двадцать тысяч человек, и даже если эта цифра слегка завышена, разгром врага был полный.
А главным успехом римского полководца было то, что в его руки попали все участвовавшие в битве слоны: «Десять слонов вместе с индийцами [так именует Полибий всех погонщиков слонов] были взяты в плен; остальные скинули с себя индийцев и, окруженные конницею, были все захвачены после сражения. Этой удачей Цецилий, по общему мнению, восстановил бодрость духа в сухопутных войсках римлян, которые теперь снова отважились овладеть полем сражения.
Когда в Рим прибыла весть об этой победе, римляне ликовали не столько потому, что с потерею слонов силы неприятеля были ослаблены, сколько потому, что победа над слонами ободрила собственных их граждан»[5].
По возвращении в Рим Метелл удостоился роскошного триумфа, в ходе которого по улицам города были проведены тринадцать вражеских вождей и сто двадцать слонов.
[Здесь мы вновь встречаемся с хронологической неопределенностью.
Триумф Метелла состоялся в 250 году. Поэтому некоторые авторы полагают, что и сама битва под Панормом состоялась в 250 году, а Метелл был уже не консулом, а проконсулом. Другие же считают, что все-таки сражение имело место в 251 году.
Если все же в 250 – остается тогда порадоваться за незадачливого Гасдрубала бен Гискона, которому судьба в этом случае даровала лишний год жизни. Поскольку по возвращении на родину беднягу за поражение распяли. Лучше бы на римскую службу перешел или в Грецию эмигрировал.
Есть, правда, мнение, что на любимую родину Гасдрубал и не думал возвращаться, и к смерти был приговорен заочно, поскольку после битвы у Панорма бежал в Лилибей, и отсиживался далее уже там].
Сражение при Панорме не только ознаменовало переход ‒ уже не в первый раз ‒ стратегической инициативы в борьбе за Сицилию к римлянам, но и явилось важным этапом в развитии боевых действий на суше.
Карфагеняне лишились своего важнейшего козыря ‒ слонов, страх перед которыми удерживал римлян от открытых сражений со времен экспедиции Регула.
Легионеры «вспомнили» наконец уроки войн с Пирром, а не злосчастное сражение Регула при реке Баграде, и слоны Карфагена отныне представляли большую опасность для собственной армии.
Римляне, кстати, не пытались использовать живые трофеи на поле боя: слоны после триумфа Метелла были определены артистами в цирк, где и выступали на радость публике.
Безрезультатные мирные переговоры
Именно к моменту поражения Гасдрубала бен Ганнона под Панормом следует отнести очередную попытку карфагенян провести мирные переговоры. Главной их особенностью было то, что пунийское посольство поручили возглавлять пленному Марку Атилию Регулу. Но об этом читателю уже известно.
О посольстве Регула и его героической смерти свидетельствуют Тит Ливий, Аппиан, Аврелий Виктор и другие античные авторы. Но начиная с Моммзена считается модным указывать, что все это-де позднейшая легенда, и такого быть не могло.
На наш взгляд, последнее свидетельствует лишь о собственном «морально-политическом облике» сомневающихся. Половина, если не более, фактов о Пунических войнах, приводимых ими без какого-либо сомнения, имеют значительно меньшее основание в источниках. Так что речь идет лишь о степени правдоподобия этих фактов, на вкус автора.
250 год. КОНСУЛЫ: Гай Атилий Регул Серран - Луций Манлий Вульсон Лонг
Осада Лилибея
Окрыленные успехами Метелла, в Риме почувствовали реальность скорого завершения войны. Снова решено было вернуться к активным боевым действиям на море, для чего развернули строительство новых кораблей. Чтобы покончить с присутствием карфагенян на Сицилии, оставалось взять всего три крупных города на юге острова: Дрепан, Эрикс и Лилибей ‒ лучшую военно-морскую базу Карфагена на Сицилии.
К последнему из них в 250 году и направилась римская эскадра из двухсот кораблей с двумя консульскими армиями на борту. Командование соединенными силами флота и наземных войск возлагалось на проверенных консулов 250 года Гая Атилия Регула Серрана и Луция Манлия Вульсона. Римляне начинали учитывать уроки прошлого и понемногу осознавать, что боевой, и прежде всего военно-морской опыт имеет явно приоритетное значение по сравнению с упорным следованием принципу обязательной ротации командных кадров.
Карфагеняне тоже не были новичками в военном деле. Им не нужно было объяснять, какое значение имеет Лилибей ‒ эта любовно выпестованная ими самими военно-морская база.
Больше отступать было некуда
На тот момент в руках у Карфагена оставались на Сицилии только два порта ‒ Лилибей и Дрепанум. Чувствуя, что инициатива на острове неуклонно уходит из их рук, карфагеняне приложили максимум усилий для удержания города в своих руках. Отступать, по правде, было уже почти некуда. Поэтому обороне Лилибея уделялось приоритетное внимание и все остальные участки противостояния фактически были преданы забвению
Мыс Лилибей, давший название городу-крепости, ‒ ближайшая к Африке точка Сицилии. Он тянется по направлению с северо-востока на юго-запад, далеко выдаваясь в открытое море. Здесь, на мысу, и располагался хорошо защищенный высокими стенами и рвом город-порт.
С морем его гавань соединяли мелководные лагуны со средней глубиной 1 – 2 м и крайне сложным фарватером, доступным только в дневное время лоцману с многолетним стажем. Наличие мелководного «предполья» делало практически невозможной плотную блокаду Лилибея с моря. Римские суда с переменным успехом пытались перекрыть подходы к главному фарватеру.
Лилибей «удостоился чести» быть первым городом, осажденным римлянами в соответствии со всеми правилами военного искусства. С разных сторон от него были выстроены два лагеря, соединенные между собой рвом с валом и частоколом. К стенам города с нескольких направлений были подведены стенобитные орудия, с помощью которых удалось разрушить одну за другой семь башен, находящихся недалеко от морского побережья.
Осажденные храбро защищались, руководимые энергичным и способным полководцем Гимильконом, вошедшим в историю, как Гимилькон Лилибейский. Против каждого пролома строилась новая стена, под осадные сооружения подводились подкопы. Днем и ночью осажденные предпринимали вылазки, стараясь эти сооружения поджечь.
Ахеец Алексон предупреждает измену
Тем не менее, положение города с каждым днем становилось все более угрожающим, и среди командиров наемников возник план сдать Лилибей римлянам. По счастливой для карфагенян случайности об этом стало известно некоему ахейцу Алексону, который тут же рассказал все Гимилькону. [Интересно, что в этой войне греки были скорее на стороне Карфагена, - вспомним Ксантиппа].
Так как все заговорщики в это время находились в лагере римлян, с которыми обговаривали условия капитуляции, Гимилькон и верные ему военачальники обратились к оставшимся наемникам с увещеваниями находиться в городе, обещая различные подарки и милости.
Солдаты легко дали себя уговорить, и когда их мятежные командиры вернулись, то были встречены камнями и стрелами[6].
Осада Лилибея
Прорыв в Лилибей Ганнибала бен Гамилькара
Карфагенский флот пока не появлялся, и блокада города осуществлялась относительно небрежно. Возможно, именно это и послужило причиной серьезного провала римлян.
В столице карфагенян, не зная в точности всей обстановки в городе, решили отправить ему вспомогательные силы и продовольствие. Был снаряжен отряд из 50 кораблей, несших на своем борту десятитысячное войско под командой очередного Ганнибала, сына Гамилькара. [Но не Барка].
Этот отряд, выйдя в море, не стал сразу же нарываться на неприятности. Ганнибал приказал бросить якорь как раз на полпути между Африкой и Сицилией. Эгусская банка, где остановился флот, была весьма удобной позицией. Ганнибал ждал попутного ветра. Возможно, он провел разведку с помощью легких судов, и если она имела место, то была проведена просто филигранно ‒ римляне ничего не заподозрили.
Как только подул устойчивый юго-западный ветер, флот снялся с якоря и на всех парусах устремился к Лилибею.
Ганнибал приказал привести суда в полную боевую готовность, а всю команду, вооруженную до зубов, выставил на палубах. Появление этой небольшой эскадры привело римлян в некоторое замешательство. Видимо, в тот момент надежной охраны фарватера не было ‒ Полибий пишет, что римские корабли даже не отошли от берега.
Внезапность нападения, осторожность по отношению к малознакомой акватории, а также то обстоятельство, что сильный ветер может увлечь вместе с карфагенскими кораблями в город и их собственные суда ‒ не дали римлянам возможности вовремя среагировать.
Им оставалось только с досадой следить за тем, как неприятельская эскадра входит в гавань осажденной крепости. Толпы людей на городской набережной приветствовали флот, ‒ сначала они высыпали на стены, а теперь рукоплескали, радуясь в большей степени не тому, что прибыли подкрепления, а тому, что удалось посрамить римлян.
Прибывшие войска немедленно влились в гарнизон города, а на следующий день Гимилькон устроил вылазку всех наличных сил, стремясь сжечь осадные приспособления и машины римлян ‒ главные орудия постепенного уничтожения городских укреплений. Консулы ожидали такого развития событий, и, когда карфагенцы оказались в непосредственной близости от вражеского лагеря, им пришлось столкнуться со всей мощью римской армии.
Скоротечная вылазка переросла в сражение, эпицентром которого стали римские осадные машины. Накал борьбы был таким, что воины обеих сторон уже не соблюдали строй, сражаясь безо всякого порядка. Когда Гимилькону стало ясно, что даже если его солдаты уничтожат римские стенобитные машины и механизмы, это будет стоить слишком больших жертв, карфагенский военачальник дал сигнал к отступлению.
Войска Гимилькона принуждены были возвратиться в Лилибей.
Еще один прорыв Ганнибала – в Дрепанум
Однако, адмирал Ганнибал не испытывал ни малейшего желания просто так оставаться в городском порту. Его сил было явно мало, чтобы сражаться с римским флотом, насчитывающим более сотни вымпелов.
К тому же, оставаясь в гавани, он имел все шансы быть все же запертым в ней римлянами. Поэтому в ночь непосредственно после сражения карфагенский флотоводец вывел всю свою небольшую эскадру из гавани в море и ушел с нею в находившийся относительно неподалеку ‒ примерно в трех милях ‒ порт Дрепанум.
Находившийся там карфагенский гарнизон во главе с Атарбалом или, иначе, Адгербалом, хотя и не получил уже никаких подкреплений, был все же рад ощутить, что в столице о них не забыли.
Чрезвычайно показательно то обстоятельство, что римляне действительно не вели никаких действий на море ночью. Фарватер оставался неохраняемым, что никак нельзя признать рациональным.
Несомненно, отсутствие устойчивого опыта блокады приморских крепостей налагалось в данном случае на объективные трудности ‒ незнание рельефа дна в акватории. Но, это никак не оправдывает того, что не было даже попыток установить ночные посты на одном-единственном направлении, которое можно было элементарно перекрыть десятком кораблей.
Вероятнее всего, от противника не ожидали такой откровенной наглости.
Так что двукратный прорыв блокады, ‒ без каких бы то ни было потерь со стороны блокадопрорывателей, ‒ состоялся. В качестве компенсации собственного разгильдяйства римляне, похоже, выделили часть сил флота для блокады Дрепанума. Это следует хотя бы из уверения Полибия, что карфагеняне в столице не имели представления о реальном положении дел в сицилийских портах ‒ следовательно, эскадра Ганнибала обратно не возвращалась.
Полибий же отмечает, что часть карфагенских сил на острове «была заперта, а за другими существовал бдительный надзор».
Полученный урок был учтен. Отныне римляне стали более тщательно следить за подходами к городу. Поэтому попытки карфагенян в дальнейшем оказать помощь осажденному Лилибею помощь оказались довольно скромными.
Сказывался также элемент усталости и подрыва сил. Неудачи преследовали карфагенян уже много лет, ресурсы государства были не безграничны. Продолжались волнения племен в Африке. Карфаген был изрядно измотан. Строительство флота сейчас могло иметь лишь ограниченные масштабы, и на риск прорыва в Лилибей с большими силами не пошли.
Прорыватель блокады – Ганнибал Родосец
Однако сама по себе связь с городом и спорадические попытки прорыва блокады не прекратились. Разница была в том, что теперь это были единичные корабли, а не эскадры.
В частности, именно сейчас взошла звезда некоего знатного карфагенянина ‒ вновь Ганнибала, но по прозвищу Родосец ‒ видно, свое состояние сделал на торговле именно с этим островом. Он сам вызвался провести разведку, прорвавшись в Лилибей с одним-единственным принадлежавшим ему самому кораблем. На этом корабле Ганнибал Родосец вышел в море и, достигнув одного из островков неподалеку от Лилибея, встал там на якорь.
Дождавшись попутного ветра, Родосец снялся с якоря и в четвертом часу дня на глазах у изумленных римлян безпрепятственно вошел по фарватеру в порт. Пассивность римлян мало объяснима, ‒ то ли сплоховала разведка, то ли, обнаружив судно, безполезно было гнаться за ним ‒ весьма быстроходным. Так или иначе, попытка прорыва удалась. Родосец сумел это сделать не только благодаря скорости. Он великолепно ориентировался в мелях и фарватерах Лилибея. По мелководью он шел со скоростью, с которой римляне мчались по открытому морю. Это давало ему гигантскую фору перед противниками.
А то, что Родосец ходил на судне-рекордсмене, подтвердилось на следующий день. Римляне ‒ по инициативе консула ‒ блокировали выход из порта. Был почти полный штиль. Десять наиболее быстроходных римских кораблей, разделившись на два отряда, еще ночью встали с поднятыми веслами вдоль лагун. Сам консул с большим количеством воинов располагался на берегу неподалеку от выхода из гавани. И что же в результате?
Родосец вновь на глазах у всех при свете дня вышел из порта. Но скорость его пентеры была такова, что римляне словно оцепенели. Дерзость и быстрота этого демарша превосходили всякое воображение, и одинокий корабль даже не пытались преследовать.
А Родосец, отойдя на некоторое расстояние, еще и остановился, и вызывающе поднял весло, откровенно насмехаясь над своими противниками.
В дальнейшем Родосец неоднократно повторял свой маневр ‒ всегда с неизменным успехом. Обычно он пользовался одним и тем же фарватером. Подходя к Лилибею, корабль Родосца делал поворот на юго-юго-запад, после чего он достигал точки, из которой крайняя приморская башня лилибейских стен закрывала собой все остальные. Здесь корабль резко изменял курс и начинал на всех парусах двигаться на северо-восток. Таким образом, Родосец всегда достигал своей цели.
Плохо для римлян было то, что Родосец уже не был одиночкой. Его примеру последовали несколько вражеских кораблей под руководством столь же храбрых и умелых шкиперов.
И если от массового прорыва в город римляне были гарантированы, то с одиночными кораблями по-прежнему не удавалось ничего сделать. Упорное желание римлян разрушить именно приморские башни было вызвано как раз стремлением ликвидировать этот чрезвычайно важный наземный ориентир для прорывающих блокаду.
Будучи не в силах догнать пунийские корабли, римляне решили перекрыть плотиной вход в гавань, и после нескольких неудачных попыток им это отчасти удалось: образовалась новая мель, на которую налетела одна из квадрирем.
Захватив ее и снабдив лучшими гребцами, римлянам в конечном итоге удалось настичь корабль Родосца и взять с помощью «ворона» на абордаж. Забегая вперед скажем, что именно по образцу этого скоростного «блокадопрорывателя» и был в дальнейшем построен римский флот, одержавший 10 марта 241 года победу у Эгатских островов, завершившую эту войну.
Прорывы блокады Лилибея с моря были прекращены.
И вновь погода на стороне Карфагена
И вновь карфагенянам пришла на помощь погода. Поднялась сильнейшая буря, и если раньше ее жертвой становился римский флот, то теперь основной ущерб пришелся на долю осадных сооружений. Ветер был такой, что опрокидывались навесы и башни.
«Между тем как осажденные настойчиво восстанавливали то, что разорял неприятель, и отказались уже от мысли повредить или разрушить осадные сооружения римлян, поднялась буря, с такой силою и стремительностью обратившаяся на передние части машин, что сорвала навесы и опрокинула стоявшие перед навесами и прикрывавшие их башни.
Некоторые из эллинских наемников находили этот момент благоприятным для разрушения неприятельских укреплений и сообщили свой план военачальнику. Гимилькон принял совет, быстро изготовил все нужное для приведения замысла в исполнение, затем его воины в трех местах бросили огонь в осадные машины.
Сама давность этих построек, казалось, подготовила легкое воспламенение их, к тому же ветер дул прямо против башен и машин; поэтому огонь распространялся быстро и неудержимо, и все меры римлян задержать пламя и защитить постройки оказывались безполезными и недействительными»[7].
Ситуация усугублялась еще и тем, что ветер дул в направлении римлян со стороны города, и к дыму и гари от пожара прибавлялись стрелы, камни и дротики, пускаемые осажденными.
Пожар закончился только после того, как сгорели все осадные машины. При этом погибло много солдат и инженеров, что вынудило римлян пересмотреть свои планы.
«После этого римляне оставили надежду взять город с помощью сооружений и кругом обвели его рвом и валом, впереди своей стоянки возвели стену и предоставили все времени. Наоборот, жители Лилибея восстановили разрушенную часть стены и теперь спокойно выдерживали осаду»[8].
В результате Лилибей остался под контролем Карфагена до самого конца Первой Пунической.
249 год. КОНСУЛЫ: Публий Клавдий Пульхр - Луций Юний Пулл
Катастрофа под Дрепанумом
Тем не менее, пока потери римлян были только от стихий, это куда ни шло. Но в 249 году карфагенский адмирал Адгербал, в переводе с иврита − Могучий Баал, наголову разгромил вдвое превосходящий римский флот под командованием консула Публия Клавдия Пульхра.
В 249 году в Риме были набраны почти десять тысяч моряков и переведены на Сицилию, чтобы возместить потери от последних столкновений. Новым первым консулом стал Публий Клавдий Пульхр, что можно перевести, как Клавдий Красавчик или Красавчик Клавдий. [Частью имени Публия стало прозвище Пульхр (Pulcher ‒ «красивый»), превратившееся в когномен для его потомков]. Под его командой было порядка 200 боевых судов.
Публий Клавдий предложил на военном совете атаковать Дрепанум, будучи уверенным, что командующий пунийским гарнизоном Адгербал не ожидает нападения с моря. Эта идея была поддержана всеми военными трибунами, а за ними и личным составом. В полночь, укомплектованная экипажами из лучших матросов и воинов, римская эскадра вышла по направлению к Дрепануму.
При переходе произошло событие, расцененное как исключительно дурное предзнаменование. Во время обязательных для такого случая гаданий-ауспиций жертвенные цыплята не стали клевать корм, что должно было предречь неудачу всего предприятия. Но консул, человек современный и образованный, презирающий подобные суеверия, просто выкинул клетку с птицами за борт:
«Пусть же они попьют, если не хотят есть» [Bibant, quoniam esse nolunt (лат.)[9]].
Эти слова Красавчика Клавдия не могли, по мнению современников, остаться безнаказанными.
На рассвете эскадра уже подходила к городу. Публий Клавдий оказался прав: Адгербал действительно был неприятно удивлен, заметив приближающиеся римские корабли. Казалось, осада и возможное взятие Дрепанума неизбежны.
Но карфагенский военачальник в панику не впал, а, напротив, с похвальной оперативностью подготовил свои корабли к грядущему бою. Учитывая, что у Адгербала их было не более сотни, храбрости ему было не занимать.
Немедленно были созваны команды и воины-наемники, к которым Адгербал обратился с кратким, но бодрящим словом, что при немедленной атаке враг будет разбит, а трофеи будут за нами. После внушивших уверенность слов адмирала, матросы и воины просто рвались в бой и быстро заняли свои места на судах, после чего эскадра стала выходить из гавани, в которую с другой стороны уже входили римские корабли. При этом сам Адгербал вел эскадру на флагманской пентере, «и отправился в открытое море прямо под скалы не с той стороны гавани, по которой входил неприятель, но с противоположной»[10].
То, что карфагеняне не только решатся на сражение, но и сумеют так быстро к нему подготовиться и выйти в море, явилось неожиданностью уже для Красавчика Клавдия. Сам консул в тот момент замыкал римский кильватер, почему и не смог вовремя оценить обстановку. Уяснив, что сам загоняет свой флот в ловушку, консул постарался переиграть ситуацию и приказал принять боевое построение вне гавани.
Даже далекий от морских дел человек может легко представить, как «быстро и эффективно» мог быть выполнен подобный приказ, вопреки всем морским обычаям и традициям переданный с флагмана, замыкающего колонну, вдобавок, когда половина судов отряда уже вошли в гавань Дрепанума, а их мателоты были на подходе к ней.
Сказать, что возникла страшная сутолока, ‒ это не сказать ничего.
При попытке разворота передние корабли наталкивались на следующие за ними, ломались весла, и римляне начали нести потери, еще не вступив в бой.
Сражение при Дрепануме
Теоретически итогом этих перестроений должна была стать боевая линия, вытянутая параллельно берегу. Последнее тоже было бы совершенно не оптимально, ‒ вспомним бой при Экноме, когда в тот раз Регул и Вульсон добивали прижатые к берегу карфагенские корабли, ‒ но хоть что-то.
Судьба и качество командования не дали римским морякам времени даже на такое, далекое от совершенства построение. Когда эскадра Адгербала начала атаку многие римские корабли просто не успели занять свои позиции.
Но те, что успели, выстроились кормой к берегу и таранами в сторону неприятеля. Командиры римских кораблей и экипажи, подчеркивает Полибий, вели себя вполне достойно. Более того, первое время бой шел почти на равных, однако постепенно победа стала склоняться на сторону карфагенян.
Этому способствовало то, что их корабли традиционно были быстроходнее и маневреннее римских и имели преимущество при выборе угла атаки и при отступлении для перегруппировки сил.
Это очень быстро нейтрализовало численное преимущество консульского флота: «Благодаря лучшему устройству кораблей и ловкости гребцов они [карфагенцы] далеко превосходили неприятеля в быстроте движений; много помогала им и постановка их флота в открытом море.
Действительно, были ли корабли их теснимы неприятелем, они быстро и благополучно отступали в открытое море; поворачивали ли они потом свои корабли назад против выступивших вперед неприятельских, они или быстро огибали их, или нападали на них сбоку: в то время, как римские корабли при своей тяжести и неумелости команды поворачивались с трудом, карфагенские наносили им непрерывные удары и многие потопили. [Совершенно не ясно, кстати, использовались ли «вороны» в этом сражении, а если использовались, то как-то малоэффективно ‒ сама по себе тяжеловесность ранее никогда не была препятствием для применения «воронов»].
Если опасность угрожала кому-либо из собственных кораблей, карфагеняне своевременно являлись на помощь без вреда и опасности для себя, ибо заходили от кормы по открытому морю.
В совершенно ином положении были римляне, именно: теснимые корабли не имели возможности отступить, так как римляне сражались у самого берега, а всякий раз, когда судно подвергалось жестокому натиску со стороны стоящего напротив неприятеля, оно или попадало на мель и садилось кормою, или оттеснялось к берегу и разбивалось.
При тяжести своих кораблей римляне не могли врываться в середину неприятельских кораблей или нападать с тыла на те корабли, которые уже сражались с другими ‒ полезнейший прием в морском сражении.
Наконец, римские корабли не могли помогать своим, нуждающимся в помощи с кормы, ибо заперты были у берега, и желающие подать помощь не имели даже небольшого свободного пространства для движений»[11].
В результате сражение вчистую проиграно римским флотом. Это был разгром.
93 корабля захвачено карфагенянами со всей командой. Похоже, большая часть из них элементарно села на мель и, потеряв ход, просто была вынуждена сдаться.
Какое-то число судов было просто выброшено на берег и не подлежало восстановлению, однако имущество с них досталось противнику, как и обещал своим командам адмирал Адгербал.
30 кораблей во главе с Красавчиком Клавдием на своем флагмане сумели бежать с поля боя, проскользнув вдоль берега к югу.
Битва при Дрепануме принесла карфагенянам самую крупную победу на море за всю войну. Причины ее те же, что в остальных роковых для римского флота происшествиях, и лежат, прежде всего, в невежестве самого римского командования.
Публию Клавдию достаточно было допустить единственную, непостижимую для любого сколько-нибудь опытного флотоводца ошибку, перечеркнувшую все преимущества его внезапного нападения и превратившую выигрышную позицию в безвыходную ловушку. Повторим, что в отличие от сухопутных генералов, адмиралы ведут свои эскадры в бой на головном флагманском корабле, а не плетутся в хвосте.
Между тем, во время перехода консул не возглавлял колонну, а шел именно в ее хвосте. Как следствие этого, он не мог адекватно оценивать обстановку и слишком поздно узнал о выходе из дрепанумской гавани карфагенской эскадры. Не получая соответствующей команды, римские корабли продолжали втягиваться в гавань и упустили шанс занять равную со своим противником позицию.
При всей моей малой симпатии к Красавчику Клавдию, совершенно убежден, что это его пребывание в хвосте кильватерной колонны свидетельствует отнюдь не о его трусости, или чрезмерной о себе заботе, но лишь о том самом сухопутном мышлении римских военачальников, о котором не раз уж упоминалось.
В этот раз оно оказалось гибельным для вверенного ему флота. Сражение было проиграно римлянами еще до его начала, как только их корабли были блокированы со стороны моря карфагенянами.
Флот римлян был в результате настолько ослаблен, что уже не мог обезпечивать осаду Лилибея с моря.
«Главный виновник разгрома, богохульник Клавдий Пульхр, был отстранен от должности и отозван в Рим, где через некоторое время предстал перед судом не за проигрыш сражения, а именно за богохульство, и был приговорен к большому штрафу, избежав, впрочем, более сурового наказания»[12].
К слову «богохульник» применительно к консулу Клавдию, стоит отнестись много серьезнее, чем это может показаться после почти анекдотической на современный взгляд истории с невинно утопленными цыплятами. Позже мы, надеюсь, рассмотрим это подробнее.
Неудачи наслаиваются ‒ гибель флота у мыса Пахин
Поражение при Дрепануме явилось первым и далеко не единственным в веренице неудач, начавших преследовать римлян во время осады Лилибея. В их лагерях свирепствовали болезни, начались серьезные перебои с доставкой продовольствия.
Чтобы облегчить положение осаждающих, в Риме сформировали эскадру, которая должна была доставить под Лилибей хлеб и прочие необходимые припасы. Командовал ею второй консул 249 года Луций Юний Пулл.
Включив по пути в свой состав то, что осталось от римского флота на Сицилии, эскадра Пулла перешла из Рима в Сиракузы, где ее численность достигла ста двадцати боевых и около восьмидесяти транспортных судов.
В то же самое время, развивая достигнутый под Дрепанумом успех, Адгербал организовал нападение на римский флот под Лилибеем. Эту операцию он доверил флотоводцу Карталону, который на рассвете со ста кораблями напал на неприятельскую стоянку, часть кораблей сжег, а часть захватил.
Возникшей в римском лагере неразберихой не замедлил воспользоваться Гимилькон, бросив на вылазку отряд наемников. Их атака была отбита, но римлянам стоило больших усилий удержать ситуацию.
Не зная обо всем этом, Пулл разделил свою эскадру надвое, отправив половину всех транспортов и несколько боевых кораблей под командованием квесторов [магистратов – помощников консулов] к Лилибею.
Сам он задержался в Сиракузах, куда еще подходили отбившиеся от основных сил корабли, и подвозилось продовольствие.
Через некоторое время и его часть эскадры вышла на подмогу осаждающей армии. Карфагенцы сохранили на острове хорошо отлаженную шпионскую сеть. Они вовремя узнали не только о приближении флота Юния Пулла, но и о его разделение.
Уверенный в собственных силах, Карталон вышел навстречу эскадре квесторов. Шедшие впереди легкие корабли римлян успели дать сигнал о превосходящих силах неприятеля, и квесторы, не решаясь вступить в открытый бой, причалили у первого же союзного городка.
Здесь римляне высадились и приготовились к обороне, так что подошедшим вскоре пунийцам удалось захватить в упорном бою лишь несколько транспортных кораблей, после чего они предпочли встать на якорь поодаль и не давать противнику выйти в море.
Эта ситуация в точности повторилась с эскадрой Юния Пулла.
Заранее оповещенный о ее приближении, Карталон повел свой флот наперехват, и консул тоже счел силы неравными и пристал к берегу.
К сожалению, в гораздо более опасном для стоянки месте.
Оценив качества побережья, Карталон не стал атаковать Пулла, а занял удобную позицию между флотами римлян, ведя за ними наблюдение.
Ему так и не пришлось вступить в бой: морская стихия вновь заменила собой карфагенский флот.
«Когда поднялась буря, а море угрожало еще большими опасностями впереди, карфагенские кормчие, благодаря знанию местности и опытности в своем деле, предусматривали и предсказывали грядущее, советуя Карталону обогнуть мыс Пахин и тем спастись от бури.
Карталон благоразумно последовал их совету, и карфагеняне, правда, с большим трудом и опасностями, обошли мыс и заняли надежную стоянку.
Зато флоты римлян, стоявшие у берегов, лишенных гаваней, пострадали настолько, что от них остались ни к чему негодные обломки.
Разрушение обоих флотов было полное, превосходящее всякое вероятие»[13].
Утрата Римом главенства на море
Суммарные потери римского флота в результате флотоводческой деятельности консулов Клавдия Пульхра и Юния Пулла превысили 250 судов. Римляне, лишившись практически всех сил флота, полностью очистили море.
Как и после катастрофы 255 года, удрученные неудачами на море сенаторы, отказались от строительства нового флота, решив ограничиться только сухопутной войной.
За последние пять лет суммарные невосполнимые потери личного состава римского флота, считая римлян и италийских союзников, подошли к отметке 200 000 человек.
Для наглядности: это сравнимо с тем, как если бы в Великую Отечественную мы бы потеряли миллионов 30 уже к Сталинграду.
Потери же собственно римлян были таковы, что в соответствии с очередной переписью количество граждан сократилось с 297 797 до 241 212 человек, то есть почти на одну шестую, а о скором завершении войны говорить пока не приходилось[14].
Все, что оставалось у римлян ‒ это накопленный ими опыт и страстное желание победить!
Продолжение следует
[1] Полибий. I, 38: 8-9.
[2] Полибий I. 39: 2-3.
[3] Валерий Максим. Достопамятные деяния и изречения. - СПб.: Издательство СПбГУ, 2007. II. 4: 7; Секст Юлий Фронтин. Военные хитрости. IV. 1: 31. Сайт «ХLegio».
[4] Полибий. I. 40: 2-3.
[5] Полибий. I. 40: 15, 41: 1.
[6] Полибий. I. 43: 1-6.
[7] Полибий. I. 48: 1-5.
[8] Полибий. I. 48: 10.
[9] Цицерон, De Natura Deorum, где об этой истории сообщается в "косвенном дискурсе".
[10] Полибий. I. 49: 12.
[11] Полибий. I. 51: 4-10.
[12] Родионов Е.А. Пунические войны. С. 121.
[13] Полибий. I. 53: 7-13; 54: 6-8.
[14] Ливий Тит. Эпитомы [также – периохи (греч.) – краткое содержание сочинения] книг 18-19. Справка: В конце IV века до н. э. население Карфагена и территорий достигало 550-600 тысяч человек, а накануне 3-й Пунической войны тут обитало 700 тысяч человек.
Для сравнения: все население Афин во времена Перикла составляло лишь 200-300 тысяч. В Риме накануне войны с Ганнибалом жило 270 тысяч человек, а все население Римской республики по данным переписи составляло 770 тысяч человек. Даже в эпоху римского расцвета при Цезаре Рим населяло около 800 тысяч человек.





















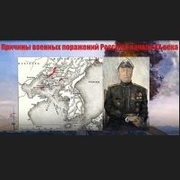

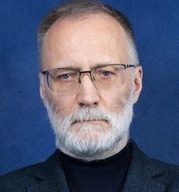
 Заседание Священного Синода кв.jpg)



