
Александр Блок на путях к образу России
Часть 2
«Не доверяй своих дорог толпе ласкателей несметной…»
Важное обстоятельство жизни и творчества Александра Блока. Вся история его взаимоотношений с поэтами, его современниками и шире – писателями и людьми культуры, с первого знакомства с ними (Сергей Соловьёв, Андрей Белый, Мережковские и в частности З.Н. Гиппиус), со «Стихов о Прекрасной Даме» и на протяжении всей жизни, до поэмы «Двенадцать» и статьи «Интеллигенция и революция», – это почти сплошные обвинения поэта в том, что он идёт «не туда», что он изменяет себе, что он «кощунствует». Но это было удивительно последовательное отстаивание им своего поэтического мира, своего понимания этого мира и жизни. Это было какое-то скорее непрекращающееся противоборство с той творческой средой, к которой он был так или иначе причастен, а не обыкновенное, естественное в творческой среде взаимовлияние. Уже после «Стихов о Прекрасной Даме» среди, казалось бы, наиболее близких людей формируется мнение, что А. Блок «изменяет себе», что он «отступает» от уже заданного идеала. Не говоря уже о «Двенадцати» и «Интеллигенции и революции» – там, в условиях революционного анархизма и беззакония были не просто упреки ему в «измене» своему таланту, но откровенная травля… Тут он прямо-таки начал «мешать» жить… Причём, всем.
Примечательна в этом плане судьба Сергея Соловьева: самый яростный обвинитель А. Блока в отступлении от идеала Прекрасной Дамы, стал противником и «Двенадцати». Да и до «Двенадцати» разошёлся с Блоком именно по духовным и мировоззренческим причинам. Когда же он тогда был поклонником Блока? И был ли в таком случае его, если не единомышленником, то близким духовно? Разве только в 1899 году, в стихах, посвященных А. Блоку: «Но голос твой раздался ясно. Меня воззвал из темноты…/ Я понял твой размах могучий». А. Блок же с юности почувствовав в себе священный огонь творчества, определил своё трудное и неизбежное положение поэта:
Не доверяй своих дорог
Толпе ласкателей несметной:
Они сломают твой чертог,
Погасят жертвенник заветный.
25 июня 1900 г.
Здесь, видимо, надо оговориться, дабы быть правильно понятым. Я пишу не биографию поэта, но пытаюсь по мере своих малых сил выявить то, каким представлялся ему образ этого мира; его духовно-мировоззренческий облик. И не события его жизни и окружавших его людей сами по себе интересуют меня в первую очередь, но их мотивации и причины. А потому читатель не найдёт в моих заметках привычной хронологической последовательности происходившего. И отсутствие её не является здесь каким-то недосмотром.
Поразительно и странно, но, по сути, с самого начала, как только А. Блок заявил о себе, начались упрёки ему в том, что он губит свой талант – то изменой светлому образу Прекрасной Дамы, то кощунствует. А попрёки в упадничестве и декадентстве продолжаются до сих пор. И так – всю его творческую жизнь, до поэмы «Двенадцать», уже с обвинениями в «большевизме». Это странное обстоятельство требует, наконец, объяснения. Что же оспаривали оппоненты поэта в нём и в его творчестве? Теперь уже, по прошествии времени и ввиду всего происшедшего у нас в России без А. Блока, совершенно ясно, что оспаривалось как раз то, что достойно было, если не похвалы, то понимания, так как поэт обвинялся в том, что оставался верен самому себе. В том, что несмотря ни на что, устоял в вере. Что сохранил русскую литературную традицию тогда, когда это казалось невозможным… Это тем более требует объяснения, что и сегодня исследователи нередко повторяют те же самые обвинения – в нетвёрдости в вере. Причём, обвиняют исследователи, как видно, никогда в руках не державшие Евангелия и не размышлявшие о нём. Или, открывшие его впервые, дожив до седин, когда верить стало «можно» и даже велено. Но такой искажённый облик поэта продолжает бытовать в читающей среде не сам по себе, а, смею утверждать, преднамеренно формируемый и навязываемый общественному сознанию. Приведу лишь один характерный пример из современной издательской практики.
Можно ли, скажем, издавать избранные произведения поэта для широкого читателя предпослав им статью «Побеждённый», одного из самых непроницательных и ортодоксальных толкователей поэта Бориса Зайцева, написанную давно, в 1925 году? Нет, конечно. Но популярное издательство «Эксмо» это делает: «Александр Блок. Стихотворения и поэмы» (М., 2002) Почему? Лишь потому, что Б. Зайцев был современником поэта? Но были современники его и попроницательней. Или потому, что он – представитель первой волны эмиграции? А это у нас – как «знак качества» вне зависимости от текстов… Ведь А. Блока точнее было бы назвать прямо противоположно – непобеждённый. Называя же статью «Побеждённый», Б. Зайцев тем самым отказывал А. Блоку в благодати Божией, ибо «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия» (Откровение, 2: 7). Ну а побеждённого вычёркивают из Книги бытия. Да ещё вдобавок в книгу включается отклик Ильи Эренбурга на статью А. Блока «Интеллигенция и революция», несправедливую по отношению к тому, о чём писал А. Блок, уже во время её написания в 1918 году. А ведь за более чем восемьдесят последующих лет об А. Блоке написано много обстоятельного и верного. Можно было бы предпослать книге хотя бы статью «Александр Блок» Георгия Адамовича, слывшего там, в зарубежье, сильным критиком. Но издатели-то выбрали самое несостоятельное и вбросили в среду, не то что уже мало что знающую об А. Блоке, но вообще перестающую читать… Если даже это не преднамеренность, а слабая подготовка издателей, представивших свои, а не Блоковские воззрения, всё равно она не извиняет нынешнего искажения облика поэта.
По сути, сразу после свадьбы, летом 1904 года в Шахматове произошла трагедия, сыгравшая решающую роль в судьбе и творчестве Александра Блока. К нему в Шахматово приехали его почитатели и друзья, поэты Андрей Белый (Борис Бугаёв) и Сергей Соловьёв – его троюродный брат, племянник философа Вл. Соловьёва и страстный пропагандист его воззрений. Ничто, вроде бы, не предвещало бури и тем не менее она разразилась, оставив глубокий след в душе А. Блока. А ведь ранее, в дневнике 1901- 1902 года, 2 апреля А. Блок сделал удивительную и даже пророческую запись о предстоящем знакомстве с А. Белым: «А не будет ли знаменьем некоего «конца», если начну переписку с Бугаёвым? Об этом очень нужно подумать». Что-то ведь подсказывало ему: водить дружбу с этим беспокойным человеком не следует…
Они, С. Соловьёв и А. Белый упрекали А. Блока в перерождении, в измене Прекрасной Даме, на смену которой приходила блудница. Между тем сами сделали, кажется, всё возможное для того, чтобы светлая лучезарная Жена превратилась в блудницу. Причём, не только в библейском, в эмоционально-образном смысле, но и в буквальном, житейском, вмешавшись в его семью, внеся в светлую шахматовскую жизнь чуждый ей дух скандала и балагана. Вдруг «влюбившийся» в жену А. Блока Любовь Дмитриевну, А. Белый «умоляет Любу спасти Россию и его». Передающая это в дневнике тетка поэта М.А. Бекетова, справедливо добавляет: «Словом, вздор и бред». (Из дневника М.А. Бекетовой, «Литературное наследство», т. 92, книга третья, М., «Наука», 1982).
Кажется, это было первое серьёзное столкновение поэта с «попираньем заветных святынь», коснувшееся его лично. Он же мучительно переживал эту трагедию, только зафиксировав факт перерождения лучезарной Жены, Прекрасной Дамы в блудницу.
Приехали в 1904 году – «полупомешанный» А. Белый, по определению самого А. Блока и экзальтированный С. Соловьёв и нарушили своеобразную жизнь Шахматова, внеся в неё дух клоунады. Даже не драмы, а именно – скандала и балагана. Драма же разыгралась только для самого А. Блока. Словно какое-то стихийное бедствие налетело на мирное Шахматово.
И уж коль сам А. Блок связывал и уподоблял стихию природную и человеческую, народную, выявлял нерасторжимую связь между ними (как в «Возмездии»: «Безжалостный конец Мессины (Стихийных сил не превозмочь)», тут видится прямо-таки зловещим совпадением: приезд в Шахматово «страшных и знающих», по выражению самого поэта, А. Белого и С. Соловьёва со страшным стихийным бедствием, смерчем, пронёсшимся над Москвой и её окрестностями 16 июля 1904 года. Об этом смерче и о приезде друзей в Шахматово А. Блок одновременно сообщал Е.П. Иванову 28 июня 1904 года: «Смерч московский разорил именье сестры моей бабушки, где жил С. Соловьёв. Вековой сад вырван с корнями, крыши носились по воздуху. Все люди и скоты спаслись. На днях приезжает Андрей Белый и, вероятно, С. Соловьёв». Пронесётся смерч, как увидим далее, и над Шахматовым, но не только этот природный, но и иной, человеческий, пошатнув его устоявшуюся жизнь.
Причина скандала, как и всегда бывает в таких случаях, оказалась незримой и крылась в ментальных, мировоззренческих сферах и духовных представлениях. С неизбежным в такого рода буйствах, психо-психологическим аспектом: «любовь»» А. Белого, – «передал Любе через Серёжу записку с признанием в любви» (М.А. Бекетова). Теперь, когда опубликовано, кажется, всё, касающееся этой неприглядной во всех отношениях истории в Шахматове, очевидно, что со стороны А. Белого это была никакая не любовь, а обыкновенный блуд, в итоге которого образ лучезарной Жены и Прекрасной Дамы потускнел, превратившись потом в «Незнакомку» и блудницу…
Тётка поэта М.А. Бекетова, не лишённая наблюдательности и проницательности, оставила в дневниках своих истинный смысл происшедшего тогда в Шахматове скандала. Отдавая должное уму, талантливости и доброте А. Белого, она вместе с тем точно определила его «диагноз»: «Боря поэт и не совсем нормален… совсем болен духом… – умный, талантливый, добрый, но, боже, до чего утомителен и многословен, с его гомерической нервной болтливостью».
Разумеется, тётка оставила своё восприятие А. Белого: «Он ужасно, утомительно тяжёл… По-моему они его раздувают и захваливают». Но это её восприятие оказалось очень близким, даже сходным с пониманием А. Блоком своего «лунного друга».
Конечно, все участники шахматовского скандала были ещё молоды, не вполне определившиеся в своих воззрениях, но здесь уже намечались их дальнейшие пути. Глядя же «на Борино кривлянье, глупости и вычуры», М.А. Бекетова была беспощадной. Но вместе с тем, – нельзя сказать, что предвзятой и неточной: «…Пышнословы, болтуны, клоуны. Сколько в них фальши… Страшно нецеломудрены. Все толкуют о прелестях «вечного» Бори. Ох уж мне эти прелести! В значительной мере они дутые. Эти молитвы с Мережковскими. Этот чёрный крест, носимый Борей при всём честном народе и потом так же разорванный…».
Результатом клоунады и балагана в Шахматово стало падение «идеалов» – потускнение вечной Жены. И А. Белый оказался не архангелом с мечом: «Отношение к Боре совершенно поколеблено и Любу не считают ни мировой, ни священной. Боря уже не архангел с мечом, не непогрешимый, а безумно влюблённый и очень жестокий мальчик…» (М.А. Бекетова).
Но как потом оказалось, сам А. Блок и не хотел этого приезда друзей. Их пригласила в Шахматово мать Александра Андреевна, полагая, что этого хочет сын: «Выяснилось окончательно, что она пригласила его (А. Белого – П.Т.) в Шахматово только потому, что думала, что этого хочет Сашура. Потом оказалось, что Сашура этого страшно не хочет» (М.А. Бекетова).
Эта шахматовская трагикомедия обернулась для А. Блока тяжкими переживаниями уже не только собственно литературного характера. Переживания, продолжившиеся для него уже без участников этой истории, и воплощённые в его стихах. Участники же этой драмы, кажется, даже не подозревали того, в чём они участвуют. Во всяком случае «вычуры» Бори, Андрея Белого, как видим, невозможно назвать христианскими…
Потом, позже А. Белого напугала новая, послереволюционная жизнь. Он стал неуклюже приспосабливаться к ней. Начал пересматривать свою же оценку А. Блока. Для него А. Блок теперь «уже не гениальнейший поэт современности». Но тут повлияла по всей видимости публикация в 1928 году дневников А. Блока, которыми он был разочарован. Но главное состояло в том, что А. Белый не был и не мог быть духовным собратом А. Блока: «Анализируя истоки душевной трагедии Блока и прерванные кончиной возможные пути её преодоления, Белый мысленно оперирует мистическими и оккультными представлениями о внутреннем мире человека, его рассуждения об этом – в русле антропософской доктрины, во власти которой он оставался в эти годы. Отсюда и обильная оснащённость записей мистической терминологией» (С.С. Гречишкин и А.В. Лавров, «Дневниковые записи» А. Белого, «Литературное наследство», т. 92, книга третья, М., «Наука», 1982 г.).
Мои скитания по окрестностям Шахматова, начались ещё тогда, (с ноября 1971 года), когда были живы люди, видевшие А. Блока, знавшие его, общавшиеся с ним. Казалось бы, что могут добавить о поэте воспоминания простых людей, да ещё спустя столь многое время – более полувека? И всё же в их свидетельствах можно было найти какое-то общее, устоявшееся народное представление и о поэте, и о его времени.
В Солнечногорске, где я тогда жил, была светлая, внимательная и умная старушка – Екатерина Евстигнеевна Можаева. В юности она работала в Шахматове прачкой. Много раз видела А. Блока, разговаривала с ним. Всё вспоминала, как они вместе сажали розу. Она-то мне и рассказала своё впечатление о свадьбе А. Блока и Л. Менделеевой 17 августа 1903 года, об их венчании в церкви Михаила Архангела села Тараканово.
В этот день все были возбуждены в связи со свадьбой. И не только в Шахматове, но и в соседних деревнях и селах. Мы девчонки, – рассказывала она, – побегли посмотреть на венчание. Так вот, когда Блок и Люба входили в церковь, в дверях её платье за что-то зацепилось, и она остановилась. Надо было, чтобы шафер или кто-либо находившийся рядом, отцепили, но не жених. Но никто не спохватился, и Блок сам, несколько вернувшись, освободил платье невесты. Этого не должно было быть. Это плохая примета, – рассказывала Екатерина Евстигнеевна. Вот оттого у них жизнь так и пошла… Не думаю, что Екатерина Евстигнеевна была таким уж читателем Блока и знатоком биографии поэта. Она выразила то, что жило в народной среде, о чём простые крестьяне знали: жизнь у них пошла так, то есть не так как следовало, как должно было быть…
Здесь важно отметить, что шафер С. Соловьёв свои обязанности шафера в нужную минуту не исполнил, хотя относился к свадьбе А. Блока как к некой мистерии: «Всемирное торжество Света, свершившееся в Таракановской церкви…». Он исполнял другие «обязанности», видимо, казавшиеся ему более важными – уберечь поэта от отхода от мистического пути. По причине новых акцентов в мировоззрении А. Блока, вскоре, уже летом 1905 года в Шахматове произошёл резкий конфликт его с поэтом. После второй книги А. Блока «Нечаянная радость» С. Соловьёв отказался от общения с ним. А превращение «Прекрасной Дамы» в «Незнакомку», «Снежную маску», «Фаину» воспринимал не иначе как кощунство и надругательство над святыней. Словом, увидел в этом «падение» А. Блока. Впрочем, для С. Соловьёва А. Блок «падал» во всё его творчество. Причём, именно духовное «падение» он видел в нём. Поэму «Двенадцать» уж тем более считал «изменой и кощунством»: «Певец современного сатанизма Блок». Такое догматическое обвинение А. Блока было распространённым и в последующие времена. Встречается нередко и сегодня: «Он не заметил, как предал Прекрасную Даму, прельстился, вступил в сговор с демонами» (Александр Журов. «Приближается звук…» Студенческие этюды. М., 2011 г.).
Революция окончательно разделила С. Соловьёва и А. Блока. Дальнейшая судьба С. Соловьёва убедительно показала, что ему не дано было быть духовным собратом А. Блока, и уж тем более не дано было стать его духовным наставником. Он продолжал свои «духовные поиски», перенёс душевную болезнь, принял духовный сан. Проповедовал экуменистические идеи глобалистского толка: «Наша Церковь должна войти в единство вселенской церкви». В начале 1920-х годов перешёл в католичество. В 1926 г. стал епископом, вице-экзархом католиков греко-российского обряда. Такое преображение своего бывшего друга А. Блок воспринимал иронически.
Правда, надо отдать должное С. Соловьёву, кажется, он в конце концов осознал за поэтом право оберегать свой «жертвенник заветный», заниматься внутренним порядком мира. Но осознал уже только в своём отклике 2 сентября 1921 года на смерть поэта. Когда читаешь недавних и некоторых нынешних уважаемых филологов о «падении» А. Блока, в том смысле, что он предался «тёмным» силам, филологов, Библии в руках никогда не державших, без которой невозможно понять и объяснить поэта, вспоминаются не только его строчки: «Печальная доля – так сложно,/ Так трудно и празднично жить,/ И стать достояньем доцента,/ И критиков новых плодить». Вспоминаются его «лучшие друзья», писавшие об этом тогда, когда был уже «ясен долгий путь», когда уже всё свершилось. З. Гиппиус в своих воспоминаниях писала: «Но Блок, прозрев, увидел лицо тех, кто оскорбляет, унижает и губит его Возлюбленную – его Россию, – уже не мог не идти до конца». Что имела ввиду З. Гиппиус? Может быть, то, о чём А. Блок помнил крепко: «Кроме бюрократии» как таковой», есть «бюрократия» общественная». (19 октября 1911). И она – беспощадна. Но вот Андрей Белый в «Дневниковых записях» выразился более чем определённо: «Такие, как А.А., находятся под особым преследованием сил зла; он это – знал; мы даже говорили об этом. С 1909 года я знал сознательно, что он и некоторые числятся в проскрипционном списке представителей тёмных оккультных обществ; и что его будут стараться устранить, губя и изнутри, и извне… Симптоматично, что он умер именно в эти месяцы…силы зла, обитающие среди тумана, теперь особенно стараются спешить с делом своим». («Литературное наследство», том 92, книга третья, М. «Наука», 1982 г.).
Напомню, что проскрипция была свойственна многим эпохам и берёт начало своё в Древнем Риме. Это – список лиц, объявленных вне закона. За выдачу или убийство, включенного в списки, назначалась награда, за укрывательство – казнь. Изобретённая Суллой как орудие массового политического террора (82-81 годы до н.э.) проскрипция использовалась как для сведения личных счётов так и средство обогащения. С той лишь разницей, что теперь такие «списки» были негласными.
На это могут сказать и непременно скажут, что это, мол, «конспирология», недостойная внимания. Скажут те, кто «под знаком равенства и братства» творит «тёмные дела». Ведь, по сути, все отношения между людьми и странами состоят из этой самой пресловутой «конспирологии»… Но здесь, А. Белый скорее выразил, как мог, извечную для человека брань духовную. И в этом он не мог обойтись без мистицизма и оккультизма, в которые впадал. В отличие от А. Блока, последовательно освобождавшегося от мистицизма и декадентства.
Исследователи нередко пускаются в «разгадку» духовной и даже душевной «трагедии» А. Блока, понимая её как некий недостаток, которого в поэте не может и не должно быть. Но духовное существование трагично по самой свой природе. Уже хотя бы потому, что жизнь человеческая конечна, что драма бытия для каждой живой человеческой души неизбежна. «Жизни тяготенье» (М. Лермонтов) – признак живой, бодрствующей души, а не диагноз и не «недуг бытия». Но филология, построенная на такой «методологии» не объясняет поэта, а ставит его в положение «ошибающегося» или чего-то «не понявшего».
«Рождённые в года глухие пути не помнят своего…»
Истории отношений А. Блока с тем или иным человеком, с тем или иным писателем, пожалуй, всегда наполнены духовным смыслом и не сводимы к бытовой стороне дела. А потому через эти отношения открывается истинный облик поэта. Вся история взаимоотношений А. Блока с Мережковскими – Зинаидой Николаевной Гиппиус и Дмитрием Сергеевичем Мережковскими – с их религиозно-философским обществом, где говорят о «несказанном», с поисками «нового христианства» и нового «белого» бога, с самого начала, с их знакомства отличались категорическим неприятием им этих «исканий» и того «синтеза», который проповедовала З. Гиппиус. В своих воспоминаниях Зинаида Николаевна писала, что не помнит, о чём мы в первое это свидание говорили». А. Блок же помнил это хорошо, так как с первой встречи и уже в первых письмах вступал с ней в полемику. И спорил не о каких-то второстепенных вопросах, но о главных, об основополагающих – о самой возможности такого «синтеза». Чрезвычайно характерно письмо А. Блока к З.Н. Гиппиус от 14 июня 1902 года из Шахматова, в котором он в ответ на её разговоры о некоем «белом» синтезе, сочетающем язычество и «старое» христианство, «очищении» христианства, говорит, по сути, о том, что это есть не что иное, как отпадение от христианства вообще. И проявляет при этом убеждения и аргументацию истинного христианина, обращаясь к Откровению святого Иоанна Богослова, Апокалипсису: «Насколько я понял Вас, Вы говорили о некотором «белом» синтезе, долженствующем сочетать и «очистить» (приблизительно): эстетику и этику, эрос и «влюблённость», язычество и «старое» христианство (и дальше – по тому же пути). Спорил же я с Вами только относительно возможной «реальности» этого сочетания, потому что мне кажется, что оно не только и до сих пор составляет «чистую возможность», но и конечные пути к нему ещё вполне скрыты от нашей «логики» (в том широком смысле, в каком мы в последний раз употребляли это слово, то есть будь то логика плоти или логика духа). Вы, если я понял до конца, считаете эти пути доступными нашему логическому сознанию даже настолько, что мы можем двигаться по ним, не нарушая и (более того) – поддерживая связь с жизнью, не отталкивая преднамеренно «шумы» жизни, дабы они не заглушали Великого шороха. Мне иногда кажется, что рядом с этим более «реальным» синтезом, но ещё дальше и ещё желаннее его, существует и уже теперь даёт о себе знать во внутреннем откровении (подобном приблизительно Плотиновскому и Соловьёвскому), но отнюдь не логически, иной – и уже окончательный «апокалипсический» – синтез, именно тот, о котором сказано: «И ничего уже не будет проклятого». «И дух и невеста говорят: прииди». «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» …к тому единству мы можем деятельно стремиться, это же явится «помимо» воли… Мы видим только образ грядущего, как видим только образ Божий, а не самого Бога».
Речь шла о теории Д.С. Мережковского, согласно которой все жизненные противоречия сводятся к расщеплению «духа» и «плоти». И в грядущем апокалиптическом царстве произойдёт «белый синтез», то есть соединение «верхней» и «нижней» бездны, Христа с Антихристом. Молодой А. Блок отверг эти построения как «нереальные» и «неосуществимые». Отверг деликатно, видимо, находясь под влиянием авторитета Д.С. Мережковского. А, может быть, уже понимая, что речь-то идёт не о каком-то грядущем, а о нынешней жизни. Ведь область духа не имеет такого последовательного развития, как, скажем, история… И это подтвердилось в дальнейшем. Чаемый Д.С. Мережковским «синтез» всё-таки произошёл. И как только такое смешение, такие воззрения стали преобладающими в обществе, началось массовое отпадение от Бога, сопровождаемое клятвами в верности Ему, но уже – Новому, и Вавилонское строительство «нового мира»… Пресловутый же «синтез» стал так сказать теоретической базой этого безумного действа.
Это было общее поветрие при наступающей шаткости душ – вместо исконной веры выдвинуть некое универсальное «единство», которое должно ответить на все вопросы. И молодой А. Блок это почувствовал безошибочно. Как видим, он изначально говорил искавшим нового «синтеза», что такой «синтез» уже есть и находится он в Откровении. Не изменил он этого воззрения и в последующем. Позже, в письме к матери Александре Андреевне он писал, что «они мелкие люди – слишком любят слова, жертвуют им людьми живыми, погружены в настоящее, смешивают всё в одну кучу (религию, искусство, политику, и т.д. и т.д.) и предаются истерике». «Религиозно-философские собеседования Мережковских на огненном фоне действительной катастрофы казались А.А. неудачною карикатурою», – справедливо писал А. Белый. Но вместе с тем отмечал: «То, к чему в Мережковских я влёкся, там именно не до конца соприкасались мы с А.А. Блоком» (Из книги «Начало века», «Вопросы литературы», № 6, 1974).
Признавая в Д. Мережковском художника, А. Блок вместе с тем писал в статье «Мережковский»: «Есть в его душе какой-то тёмный угол, в который не проникли лучи культуры и науки… До изнеможения говорит о Христе и только о нём». Он говорил о Д. Мережковском по самому высокому счёту, ибо за этим стояло «всечеловеческое дело». А в центральном постулате его учения «ввести всю культуру в религию», распознал угрозу как религии, так и культуре: «Мережковский кричит, что культура – не проклятая блудница, так же громко, как то, что Иерусалим, сходящий с неба, не есть старая церковь. Между тем люди «позитивистской культуры» не слышат его или вежливо делают вид, что услышали».
А в «Ответе Мережковскому» уже в ноябре 1910 года, «уличившего нас в сатанинской гордости», высказывает важные мысли о связи каждого человека с Родиной: «Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России… Как Россия, так и мы», – это вовсе не гордое и не самоуверенное утверждение считал он: «На самом же деле, что особенно самоуверенного в том, что писатель, верующий в своё призвание, каких бы размеров этот писатель ни был, сопоставляет себя со своей родиной, полагая, что болеет её болезнями, страдает её страданиями, сораспинается с нею… Родина – это огромное, родное, дышащее существо, подобное человеку». Но между тем, читает и ценит Д. Мережковского как писателя, о чём свидетельствуют его записи.
Но несовпадение по главным мировоззренческим вопросам становится препятствием к сближению и общению. 22 ноября 1910 года он пишет матери: «Мережковскому мне просто пришлось прочитать нотацию. Они уже больше, кажется, ничего не чувствуют и не понимают». И – А. Белому 19 декабря того же года: «Я написал Д.С. Мережковскому несколько резких писем. Он отвечал так, что лучше бы и совсем не отвечать. Больше не буду делать попыток к сближению; для меня не приемлем Мережковский, как его сверстники – Розанов и Минский. Бог с ними». Словом, «к Мережковскому он ни в чём не примкнул» (А. Белый).
Да он и ранее уже тяготился этим общением. В статье «О реалистах» (май – июнь 1907 года) А. Блок писал: «Мучительно слушать, когда каждую крупицу индивидуального, сильного Мережковский готов за последние годы свести на «хлестаковщину», «мещанство» и «великого хама».
З. Гиппиус в отношениях с А. Блоком изначально поставила себя в положение «покровителя», что не то чтобы тяготило его, но забавляло, о чём он пишет 3 декабря 1905 года Е.П. Иванову: «Против Мережковских что-то чувствую не совсем… Немного боюсь идти к ним, они хотят посадить меня на ладонь и сдунуть». А в письме 28 января 1906 года к А. Белому: «Мне часто начинает казаться, что они – ужасные келейники, и потому в них мало лёгкости».
Но А. Блок не оправдал надежд З. Гиппиус приобщить его к своей вере, к «синтезу». И очень скоро, уже, по сути, сразу после его женитьбы 20 ноября 1903 года он сообщал А. Белому: «М-ме Мережковская создала трудную теорию о браке, рассказала мне её в весеннюю ночь, а я в эту минуту больше любил весеннюю ночь, не расслышал теории, понял только, что она трудная». А.В. Гиппиусу 23 февраля 1904 года: «У Мережковских не бываю с тех самых пор, как Зинаида Николаевна убедилась в моей негодности, происшедшей от женитьбы».
Но дело в том, что А. Блок не отделял себя от той среды, которой тяготился. Не отделял себя от «рожденных в года глухие» и не помнящих «пути своего», как он писал в стихах, посвящённых З.Н. Гиппиус. Не в Боге он сомневался, а в себе и своих современниках.
И не отделял себя от «интеллигенции», этого своеобразного образования, поставившего себя в отношение борьбы с народом, какие бы суровые определения ей не выносил. Под интеллигенцией же в России он понимал совсем не то, что разумели многие, да и до сих пор разумеют: «Интеллигенция… опять-таки, особого рода соединение, однако существующее в действительности и, волею истории, вступило в весьма знаменательные отношения с «народом», со «стихией», именно – отношения борьбы». Что это за гремучая смесь, об этом он и думал трудно и мучительно. Но это дало внешний повод для упрёков его в том, к чему он не имел отношения, в том, что он был выразителем «интеллигенции». Если и имел, то самое отдалённое и формальное. Скорее по происхождению, а не по сути.
А. Блока издавна, а нередко и теперь, судят по принадлежности к тому или иному поэтическому направлению или школе, несмотря на то, что он был категорическим противником таких направлений и школ. А то и просто – по его окружению. Если он имел какое-то отношение к мистикам, значит он – мистик. Раз общался с декадентами, значит – декадент. Хотя ни то, ни другое, ни из его творчества, ни из его образа жизни и воззрений не следует. Даже В. Розанов поминал о его «декадентстве». На это А. Блок отвечал ему в письме от 17 февраля 1909 года не отнекиваясь, а пытаясь постичь это явление, это поветрие, охватившее значительную часть образованных людей: «Вы говорите обо мне, в сущности, как о представителе группы, а упоминаете о «декадентстве», «индивидуализме» и т.д. – метите мимо меня… Я не отрицаю, что я повинен в декадентстве, но кто теперь в нём не повинен, кроме мертвецов? Думаю, что и Вы его не избегли, потому что оно – очень глубокое и разностороннее явление».
Вся история отношений З. Гиппиус с А. Блоком свидетельствует о том, как в силу разных миропониманий не произошло ни сближения, ни «покровительства», ни подлинной дружбы. Ну а после поэмы «Двенадцать» З. Гиппиус оказалась в числе первых, кто объявил бойкот поэту. Закономерно и неизбежно. Об этом он написал в письме к ней, но оставил его неотправленным. Тоже ведь не случайно, ибо что-либо изменить и переменить было уже невозможно: «Нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я ещё мало видел и мало сознавал во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя трагедия, как и Ваша). Но только рядом с второстепенным проснулось главное».
А в стихах 1918 года, посвящённым ей, «Женщина, безумная гордячка…» вынес ей беспощадный приговор:
Голос ваш не слышу в грозном хоре,
Где гудит и воет ураган.
Страшно, сладко, неизбежно надо
Мне – бросаться в многопенный вал,
Вам – зеленоглазою наядой
Петь, плескаясь у ирландских скал.
Так собственно и произошло. Но, даже время спустя, после смерти поэта З. Гиппиус в воспоминаниях напишет: «Страданьем великим и смертью он искупил не только всякую свою вольную и невольную вину, но, может быть, отчасти позор и грех России». То есть, не почувствует, не различит «зеленоглазая наяда» духовной и этической высоты А. Блока в вопросе: достойны ли мы Его? Не о своих грехах вольных или невольных она будет говорить, а о «позоре и грехе» России…
Главный вопрос, по которому А. Блок не сходился и расходился со своими декадентствующими «лучшими друзьями» был вопрос о России, о её истории и судьбе, о зависимости каждого из нас от неё, от её благополучия и от её бед: «Приюти Ты в далях необъятных! Как и жить и плакать без тебя!» А «лучшие друзья» писали в то же время о той же России совсем иначе. Как А. Белый в книге «Пепел»:
Довольно: не жди, не надейся –
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!
…Исчезни в пространство, исчезни
Россия, Россия моя!
1908 г.
«Безотрадной, лишённой каких-либо примет духовной и физической красоты предстала Россия и в книге стихов А. Белого «Пепел»… Не увидел автор «Пепла» ничего одухотворённого, никакой красоты – ни божественной, ни земной…» (М. Пьяных. «Александр Блок, Андрей Белый. Диалог поэтов о России и революции», М., «Высшая школа», 1990).
А ведь это была целая литературная «традиция» – гибели собственной страны. Не только оправдание гибели страны, но страстное желание этого. Активно работая для приближения этого безумия. Разумеется, под знаком «освобождения». Воспитанные на Вл. Соловьёве, с упоением и восторгом декларировали то, что, казалось бы, не должно было вызывать восхищения и восторга:
О Русь! забудь былую славу:
Орёл двуглавый сокрушён,
И жёлтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамён.
Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть…
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвёртому не быть.
И это тогда, когда до падения третьего Рима, то есть России, было ещё далеко. И орёл двуглавый – ещё не был сокрушен. И словно не ведали о том, что бывает, когда настает «России чёрный год, когда царей корона упадёт» (М. Лермонтов), самоотверженно приближали крушение России... Кто преодолел эту «традицию», а кто и нет. А. Белому преодолеть её явно не удалось. И он вослед за Вл. Соловьёвым её продолжил… Ведь это не только творческий, но духовный и нравственный срыв, о котором С. Городецкий в связи с книгой «Пепел» писал: «Поэт не даёт никаких надежд, не хочет никаких иллюзий. Чем хуже, тем лучше»…
Поразительный факт. После кончины А. Блока А. Белый стал читать лекции о нём. Одна из записок от слушателей его лекций была такой: «Лекция не отвечает теме. Надо было озаглавить: «Мои воспоминания о Блоке». Где же обещанная Россия в освещении Блока? Здесь только то, что Вам «помнится» о поэте». Значит России «в освещении Блока» люди ждали. А это были, в 1921 году, по сути, те же герои «Двенадцати», готовые пальнуть пулей в Святую Русь…
Могла ли Россия не «исчезнуть», если дети её желали её погибели? Разумеется, нет. Нам же остаётся тяжкая дума о том, какой бес их побуждал к этому? Что это вообще за феномен какого-то безумия, неосмотрительности, порочности, лицедейства? Неужто не подозревали о том, что с её «исчезновением» «исчезают» и они?.. Непостижимо! Видимо, это то духовно-психологическое состояние, о котором писал А. Блок в дневниковой записи 2 января 1912 года. Причём, предварял эту запись так: «Господи благослови», словно далее речь пойдёт о чём-то таком, к чему и обращаться-то без крестного знамения невозможно: «Когда люди долго пребывают в одиночестве, например, имеют дело только с тем, что недоступно пониманию «толпы» (в кавычках – и не одни, а десяток), как «декаденты» 90-х годов, когда – потом, выходя в жизнь, они (бывают растеряны), оказываются беспомощными и часто (многие из них) падают ниже самой «толпы». Так было со многими из нас».
И опять-таки поэт не отделяет себя от этих несчастных, ушибленных эпохой, не помнящих о путях своих. Но тихо, внешне неприметно отходил от них, от «лучших друзей».
Особенно странны и несправедливы упрёки А. Блока в декадентстве, в упадничестве, длящиеся до сих пор. Кажется, что филологи в своих приговорах исходят не из текстов поэта, а из тех «репутаций», которые навязаны «общественным мнением», а точнее, по словам самого А. Блока, – «бюрократией общественной»…
А. Блок, как и всякий поэт, конечно же, не был свободен от тех духовно-мировоззренческих поветрий, которые по неведомым нам закономерностям происходят в обществе. В том числе и поветрий негативных – умаляющих человека, искажающих его духовную природу. И весь вопрос в том, как он к ним относился – покорно следовал им, безропотно принимал их, умножая зло, или же сопротивлялся им. А. Блок, признавая «декадентство» и в себе, изначально сопротивлялся ему, отвергал его, о чём он писал, к примеру, Е.П. Иванову 25 июля 1906 года: «Ненавижу своё декадентство, бичую его в окружающих». А потому филологи, попрекающие А. Блока «декадентством» до сих пор, вольно или невольно отбрасывают самое сложное и самое драгоценное – пути преодоления «декадентства». Не только в творчестве А. Блока, но и в нынешней жизни.
Филолог, блоковед С.А. Небольсин в статье «В первых столкновениях с декадентами» доказал и убедительно показал, что А. Блок, вопреки мнению, распространённому в научной среде о незнании им «современной поэзии», уже в юности хорошо знал «новую поэзию», то есть «декадентскую» (в кн. «А. Блок и современность», М., «Современник», 1981). И изначально отрицал её, иронизировал над ней, пародировал её… Уже в рукописном журнале «Вестник» за октябрь 1895 года: «Горько рыдает поэт,/ Сидя над лирой своею разбитой,/ Лирой, венками когда-то увитой,/ Всеми покинутый, всеми забытый…».
Юного поэта не смутила шумная реакция публики и критики на «новую», то есть «декадентскую» поэзию. Он сразу распознал её суть: «Блок познакомился с декадентской поэзией не довольно поздно, а наоборот – очень рано: познакомился именно тогда, когда она впервые и только что заявила о себе в России. И знал Блок как раз то, что в 1894 – 1895 годах пользовалось в России наиболее шумной известностью как «новая поэзия». В это же время очевидна и «серьёзность» блоковского «писания». Состояла она в следующем: поэт сразу занял мировоззренчески оснащённую позицию противостояния, а не пылкой самоотдачи декадентству. Религиозно-символической полемике с «декадентством» предшествует, таким образом, совсем иная страница блоковской биографии. И она же предшествует ещё более поздним поискам верного пути» (С.А. Небольсин).
Главное же состоит в том, что филологи всё ещё упрекающие А. Блока в «декадентстве», на самом деле демонстрируют не только непонимание поэзии и мировоззрения А. Блока, но и неразличение «декадентства» в нынешней жизни. Красноречивый пример того, о чём писал Н. Страхов, что непонимание литературы граничит с глубоким непониманием самой жизни…
Видимо, А. Блок не только в связи с вмешательством А. Белого в его личную жизнь, писал ему в сентябре 1910 года из Шахматова: «Нам не стоит заботиться о встречах и не нужно». В душе поэта происходили важные перемены. Начата поэма «Возмездие», отход от «лирики», перестройка Шахматова с какими-то тайными надеждами. Извечное, но теперь по-новому понимаемое «соединение жизни и искусства». Новое отношение к жизни, отход от «декадентства», о чём он писал матери 21 февраля 1911 года: «Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме и на моём чувстве мира. Я думаю, что последняя тень «декадентства» отошла». «Безумство» А. Белого теперь было ему как бы ни к чему… Он просто перестал быть интересен А. Блоку. Какой-то не взрослеющий, остающийся на прежнем уровне, в то время, как в жизни происходили такие важные и грозные события… В начале 1913 года А. Блок записывает в дневнике: «А. Белый. Не нравится мне наше отношение и переписка. В его письмах все то же, он как-то не мужает, ребячливая восторженность, тот же кривой почерк, ничего о жизни, всё почерпнуто не из жизни, из чего угодно, кроме неё. В том числе, это вечное «Ты» (с большой буквы»). И 29 апреля того же года: «Гиппиус строчит свои бездарные религиозно-политические романы. А Белый – слишком во многом нас жизнь разделила».
(Продолжение следует)







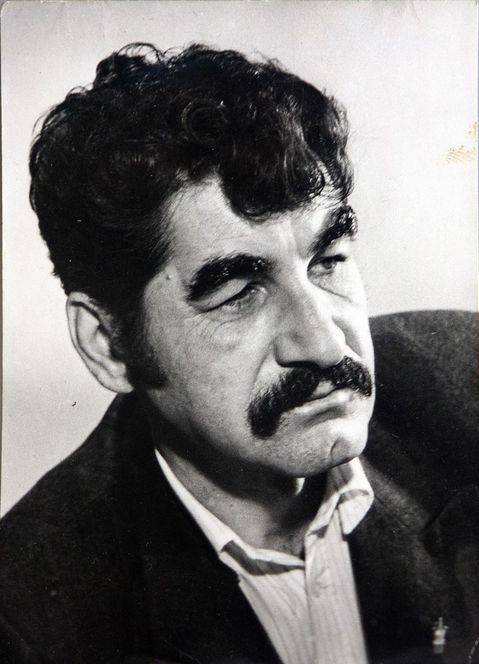







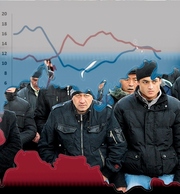




1. "Человек, отнимающий аромат у живого цветка...".
Так трудно и празднично жить...
И стать достояньем доцента,
И критиков новых плодить".
Эх, Сашка...