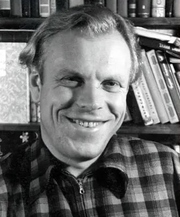|
|
«Одна за всех – из всех – противу всех!» – формула, отражающая и объясняющая многое в жизни и творчестве Марины Цветаевой. Недаром так, несколько изменив, назвали издатели один из удачных, на мой взгляд, сборник произведений Цветаевой [1].
«Я – вселенной гость...» Неоднократно, в статьях и письмах, Марина Цветаева приводит строки: – Гордыня? А стоит ли спешить с определениями?.. В письме к А. Бахраху М. Цветаева скажет: «...СУЩНОСТЬ, то, что вне нации, то, что над нацией, то что (ибо все пройдет!) – пребудет» [2: 558]. И в рабочей тетради запишет: «Разве есть русские (французские, немецкие, еврейские и пр.) чувства? Просторы?»; «Есть чувства временные (национальные, классовые), вне-временные (божественные: человеческие) и до-временные (стихийные). Живу вторыми и третьими»; «Национальность – тело, т.е. опять одежда» [3]. В письме к Р. Гулю: «Чувствую, вообще, отвращение ко всякому национализму вне войны…» [4: 520; здесь и ниже курсив автора – Л.В.] Можно приводить множество высказываний, но суть их – одна: главное в человеке – душа, сердце, человечность – «сущность», независимая от национальности. Это – кредо Цветаевой. Она порою отвергает и имя: «русский поэт». Так, напишет Р. -М. Рильке: «Для того и становишься поэтом (если им вообще можно стать, если им не являешься отродясь!), чтобы не быть французом, русским и т.д., чтобы быть – всем. Иными словами: ты – поэт, ибо не француз. Национальность – это от- и заключенность. Орфей взрывает национальность или настолько раздвигает ее пределы, что все (и бывшие, и сущие) заключаются в нее. И хороший немец – там! И – хороший русский!» [5: 66]. Утверждает: «Поэт есть бессмертный дух», «который дышит, где хочет, рождаясь в Москве или Петербурге – дышит где хочет» [6: 408]. Поэт не нуждается «в рвани валют и виз». Право поэта на весь мир – неоспоримое право. Данное Богом, людям – не оспорить. Как и – «Страсть к каждой стране, как к единственной – вот мой Интернационал. Не третий, а вечный» [7: 261]. Всем: происхождением, воспитанием, в том числе – за рубежом, знанием языков, искусства, литературы обусловлена любовь Марины Цветаевой к Италии и Германии, Швейцарии и Франции, к давно ушедшим – Древней Греции, к – рождением сына, значит, – кровно связанной – Чехии. «Стихи к Чехии», письма к А.А. Тесковой, дневниковые записи – неоспоримые свидетельства, что чешский народ – «Народ моей любви», тем более, – в дни его трагедии. 29-30 сентября 1938 года – «Мюнхенский сговор» – соглашение между Германией, Италией, Англией и Францией, в результате – от Чехословакии отторгнута Судетская область и поделена между гитлеровской Германией, буржуазной Венгрией и панской Польшей. Какой любовью, какой болью за преданную страну – Стихи к Чехии! – ...Жир, аферу празднуй! Из так называемой «маленькой прозы» М. Цветаевой меня привлек ее рассказ «Китаец» (1934). Прошу прощения за обширную цитату, но она, на мой взгляд, раскрывает многое в чувствах «эмигрантки»: «Почему я так люблю иностранцев, всех без разбору, даже подозрительных арабов и заносчивых поляков, не говоря уже о родных по крови юго-славянах, по соседству и воспитанию – немцев, по нраву и громовому р – итальянцев, не будем перечислять, – всех без разбору? Почему сердце и рот расширяются в улыбку, когда на рынке заслышу французскую речь с акцентом, верней, один акцент с привеском французской речи? Почему, если мне даже не нужно капусты, непременно, магнетически, гипнотически, беру у "метека" кочан и даже, вернувшись, второй, только чтобы еще раз услышать его чудовищное для французских ушей "мерррси", с топором рубнувшим "мадам", а иногда и просто: "До свидания, приходи опять". Почему, при худшей капусте, для меня метеков лоток непреложно – лучше? Почему рука сама, через лоток, жмет арабову, арапову и еще не знаю чью – лапу? Почему, когда на рынке ловкий "камло", сыпля словами и жестянками, превозносит французскую сардинку и поносит португальскую, я, оскорбленная, отхожу? Ведь не меня же ругали – при чем тут русские? Но ругая португальскую сардинку, меня, мою душу задели, и это она увела меня из круга туземцев более властно, чем ангел-хранитель за руку, или ажан – тоже за руку, хотя иначе. Потому ли (так люблю иностранцев), что нам всем, чужакам, в Париже плохо? Нет, не потому. Во-первых, мне в Париже не плохо (не хуже, чем в любом месте, которого я не выбирала), во-вторых, моему рыночному другу-армянину <...> в Париже явно хорошо. Значит, дело не в плохости жизни, и любовь моя не "camaraderie de malheur" (товарищество по несчастью – фр.) А потому что каждому из нас кто-то, любой, пусть пьяный, пусть пятилетний, может в любую минуту крикнуть "метек", а мы этого ему крикнуть – не можем. Потому что, на какой бы точке карты, кроме как на любой – нашей родины, мы бы ни стояли, мы на этой точке – и будь она целыми прериями – непрочны: нога непрочна, земля непрочна... Потому что малейшая искра – и на нас гнев обрушится, гнев, который всегда в запасе у народа, законный гнев обиды с неизменно и вопиюще неправедными разрядами. Потому что каждый из нас, пусть смутьян, пусть волк, – здесь – неизменно ягненок из крыловской басни, заведомо – виноватый в мутности ручья. Потому что из лодочки, из которой, в бурю, непременно нужно кого-нибудь выкинуть, – непременно, неповинно и, в конце концов, законно, будем выкинуты – мы. Потому что все мы, от африканца до гиперборейца, camarades не de malheur, a: de danger (товарищи не по несчастию, а по опасности – фр.) Потому что, если мы все под Богом, то на чужой земле еще и под людским гневом ходим. Гневом черни, одной – всегда, одним – всегда. Потому что стара вещь – вражда, и сильна вещь – вражда. Иностранца я люблю за то, что у него на всякий случай голова втянута в плечи, или – что то же и на тот же случай – слишком уж высоко занесена. Не "плохо живется", а плохо может прийтись». Но все-таки – «Страх оскорбления, а не смерти, нам всем головы втягивает, – признается М. Цветаева, – и вызов невидимому оскорбителю иным из нас головы заносит. Оскорбления, на которое в иностранцевом словаре – нет слов. Camarades d’orgueil blessé (Товарищи по уязвленной гордости – фр.)» Прочтите рассказ! Улыбнитесь «торгу», некоторым обстоятельствам, диалогу: « – Madame – русская? Я знаю русских, они делают все, что им приходит в голову, и не терпят, чтобы им противоречили. Правда, Madame?» – «Совершенная, – серьезно подтверждаю я, – и больше того: когда им не дают делать того, что им приходит в голову, они эту голову – теряют...» Примите концовку – сценку взаимного одарения, и – детское: « – Мама, а насколько китайцы больше похожи на русских, чем французы"» [10]. Немало у М. Цветаевой свидетельств родственного отношения к татарскому народу, это и «Ведь и татары мы!», «Родины моей широкоскулой… / Шопоты и топоты татар», вполне понятные и в свете не лишенного справедливости и юмора: «Поскреби русского – найдешь татарина», и в свете работ Л.Н. Гумилева и его последователей. Какой человечностью, теплом овеяны страницы дневника Цветаевой, где – о любви к татарскому мальчику в Гурзуфе! – «…этого мальчика любила так и этот мальчик любил меня так, как никогда уже потом никто меня и, наверное, никто – его» [11: 182]. И совершенно напрасно некоторые татары обвиняли Марину Цветаеву в «оскорблении татарского народа» за ее слова в Колыбельной, рожденной 28 марта 1939 года – В оны дни певала дрема
«Правда всегда останется правдой...» «Правда всегда останется правдой, независимо от того, приятна она или нет», – писала юная, 16-тилетняя Марина Цветаева [13: 23]. И – 39-ти лет отроду: «…мое дело на земле – правда, хотя бы против себя и от всей своей жизни» [14]. Кстати, 27 мая 1928 года в Париже состоялся диспут, 29 мая в «Последних Новостях» опубликована статья С. Литовцева о русско-еврейских отношениях – «жгучем» вопросе эмиграции. В 1929 году по вопросу, своей книгой «Что нам в них не нравится…», выступил В.В. Шульгин. Немало в ней о том, чего не принимает и С.Я. Эфрон, рассказывая в письме В.Ф. Булгакову о встрече в Париже Нового Года (1926): «Собралось больше тысячи "недорезанных буржуев", пресыщенных и вяло-веселых (все больше – евреи), они не ели, а жрали икру и купались в шампанском. На эту же встречу попала группа русских рабочих в засаленных пиджаках, с мозолистымим руками и со смущенными лицами. Они сконфуженно жались к стене, не зная, что делать меж смокингами и фраками. Я был не в смокинге и не во фраке, а в своем обычном синем костюме, но сгорел от стыда…» [17]. Бог мой, до чего же – «современно»!.. Многие стихи Цветаевой, строфы Поэмы Конца (1924), Поэмы Лестницы (1926), Поэмы Воздуха (1927) свидетельствуют о глубоком знании как библейской, так и новой истории евреев, полны сочувствия. Чего стоит: «Жизнь, это место, где жить нельзя: / Ев-рейский квартал…»? Или, афористичное: «В сем христианнейшем из миров / Поэты – жиды!» Но: «Единственное, что читаю сейчас – Библию. Какая тяжесть – Ветхий Завет! И какое освобождение – Новый!» [18: 528]. Трудно не согласиться. «Там, где говорят: еврей, подразумевают: жид – мне собрату Генриха Гейне – не место», – писала М. Цветаева Ю. Иваску, рассказав ему об остром конфликте с «младороссами»: «Я, четко и раздельно: – "ХАМ-ЛО!" (Шепот: не понимают). Я: – "ХАМ-ЛО!" и, разорвав листовку пополам, иду к выходу. Несколько угрожающих жестов. Я: – "Не поняли? Те, кто вместо еврей говорит жид и прерывают оратора, те – хамы"» [19: 384]. Но: «…мой дядя (Д.В. Цветаев) после Варшавы был один из самых видных черносотенцев Москвы – Союз Русского народа – очень добрый человек – иначе жид не говорил. У него я, девочкой, встречала весь цвет черной сотни» [20: 614]. Заметим: «после Варшавы»! Или, в письме В.Н. Буниной, после встречи со «своей польской женской родней»: «Кстати, в полной невинности, говорят "жиды", а когда я мягко сказала, что в моем муже есть еврейская кровь – та старая бабушка: "А жиды – разные бывают". Тут и я не стала спорить» [21: 249]. Вспомним вторые стихи Евреям, 1920 года, в них несомненно М. Цветаева вспоминает Генриха Гейне: Вспоминаю «отчаянные просьбы» Цветаевой об «иждивении», унижения. 15 ноября 1925 года она напишет Д.А. Шаховскому о попытке найти бесплатный зал для первого ее выступления в Париже: «Цейтлины (т.е. Мария Самойловна) уже отказали. – "К нам она – и нам ее поэзия – не подходят". Снять зал – 600 франков. Для меня вечер – вопрос не славы, а хлеба» [24: 28]. Об этом же – в письме С.Я. Эфрона В.Ф. Булгакову : «...резкое недоброжелательство почти всех русских и еврейских барынь, от которых в первую очередь зависит удача распространения билетов. Все эти барыни, обиженные нежеланием Марины пресмыкаться, просить и пр., отказались в чем-либо помочь нам» [25]. Но... В. Сосинский напишет 6 февраля 1926-го своей невесте А. Черновой о «большом, крупном успехе», аншлаге: «В результате – великая правда божья: все, купившие пятифранковые билеты, сидят: все Цетлины, Познеры – толкутся в проходах» [26: 52]. Здесь, наверное, стоит вспомнить и упоминаемую выше статью М.А. Осоргина («золотое сердце» – М. Цветаева). Он писал, что в эмиграции, «там, где духовный уровень выше, где углублены интересы мысли и творчества, где калибр человека крупнее, – там русский испытывает одиночество национальное; там, где близких ему по крови больше, – одиночество культурное. Эту трагедию я и обозначаю словами заголовка: русское одиночество...»«Я ни в какой мере не антисемит, но я в большой мере русский славянин… Свои, русские, мне ближе по духу, по чистоте языка и говора, по специфическим национальным достоинствам и недостаткам. Иметь их моими единомышленниками и соратниками мне ценнее, просто даже удобнее и приятнее. В многоплеменной, вовсе не русской России я умею уважать и еврея, и татарина, и поляка, – и за всеми ими признаю совершенно одинаковое со мною право на Россию, нашу общую и родную мать: но сам я из русской группы, из той духовно влиятельной группы, которая дала основной тон российской культуре». Он видит: «русский за рубежом захирел и сдался, уступив общественные посты иноплеменной энергии». Что же, – «Еврей акклиматизируется легче… – его счастье! Зависти не испытываю, готов за него радоваться». Но, охотно уступая еврею арену общественную, признается, что «есть одна область, где "еврейское засилие" решительно бьет меня по сердцу: область благотворительности». И с болью замечает: не зная «у кого больше денег и бриллиантов: у богатых евреев или у богатых русских», убедился, что «обращаться к богатым русским – бесполезная и унизительная трата времени», в то время как «большие благотворительные организации в Париже и в Берлине лишь потому могут помогать нуждающимся русским эмигрантам, что собирают нужные суммы среди отзывчивого еврейства» [15: 162-163]. – Горько! Извечно – «бьет по сердцу»... Однако в случае с Мариной Цветаевой – далеко не всегда «срабатывает». Унижение – непосильно, да и очевидно: «Моя неудача в эмиграции – в том, что я не-эмигрант, что я по духу, т.е. по воздуху и по размаху – там, туда, оттуда» [27]. Вспоминаю: «...дружу с эсерами, – с ними НЕ душно. Не преднамеренно – с эсерами, но так почему-то выходит: широк, любит стихи, значит эсер. <…> С правыми у меня <…> – холод. Тупость, непростительнейший из грехов!» [28: 533].Среди эсеров было немало евреев, среди «правых», в отличие от сегодня, – русских монархистов, винивших евреев в разрушении России. В эмоциональном письме П.П. Сувчинскому и Л.П.Карсавину М. Цветаева, отстаивая русскость С.Я. Эфрона, писала: «Делая С.Я. евреем вы 1) вычеркиваете мать 2) вычеркиваете рожденность в православии 3) язык, культуру, среду 4) самосознание человека и 5) ВСЕГО ЧЕЛОВЕКА. Кровь, пролившаяся за Россию, в данном случае была русская кровь и была пролита за свое. Делая С.Я. евреем, вы делаете его ответственным за народ, к которому он внешне – частично, внутренне же – совсем непричастен...» [29:185]. Не стоило бы, вникнув в последнюю фразу, вспомнить о роли евреев в революции, в жутчайшем «красном терроре»? И – яростное возмущение Цветаевой на условие: «вне политики», для издания А.Г. Вишняком «Земных примет», книги «страстной правды: пристрастной правды холода, голода, гнева, Года!» Она напишет: «...что я, в люльке качалась? Мне было 24-26 лет, у меня были глаза, уши, руки, ноги: и этими глазами я видела, и этими ушами я слышала, и этими руками я рубила (и записывала!), и этими ногами я с утра до вечера ходила по рынкам и по заставам, – куда только не носили! ПОЛИТИКИ в книге нет <…> У меня младшая девочка умерла с голоду в приюте, – это тоже "политика" (приют большевистский)». И снова: «Это не политическая книга, ни секунды. Это – живая душа в мертвой петле – и все-таки живая». Да, – «Евреи встают гнусные. Такими и были»» [30: 523]. И – со страстной просьбой найти издателя, уверяя, что книга – «не черносотенная», но «глубоко-правдивая», «отвергнутая в Госиздате, она так же была бы отвергнута в издательстве Дьконовой. (Черносотенном?) В ней есть очаровательные коммунисты и безупречные белогвардейцы, первые увидят только последних, и последние – только первых» [31: 528]. Увы… Но – чревато. Бедами. Интересна запись в августе 1921 года в рабочей тетради: «Аля: – Марина! Я подметала и думала о евреях. Тогда – из тысяч тысяч – поверил один, теперь – Ленину и Троцкому – на тысячу вряд ли один не поверит. – Аля! Вся Библия – погоня Бога за народом. Бог гонится, евреи убегают» [32]. И – 16 апреля 1925 года, в Страстной Четверг: «У меня с каждым евреем – тайный договор, заключаемый первым взглядом» [33]. – Договор о ненападении?.. Вспоминается В.В. Розанов: «Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на тебя острым глазком... И все понятно. И не надо никаких слов. Вот чего нельзя с иностранцем» [34: 199]. Да, Цветаева писала в постскриптуме письма о «еврействе» С.Я. Эфрона: «Евреев я люблю больше русских и может быть очень счастлива была бы быть замужем за евреем…» [29] Но и она же: «…мое отношение к еврейству вообще: тяготение и презрение. Мне ни один еврей даром не сходил! (NB! А ведь их – мно-ого!)» [35: 692]. Да, много. И – случаев «еврейски-буржуазного хамства», об одном из них Цветаева напишет В.Н. Буниной. О докторе, эсере, «очень богатом господине», который на предложение купить десятифранковый билет на «целый вечер моего чтения, авторского чтения двух неизданных вещей», ответил: «Цветаева ОЧЕНЬ вредит себе своими серебряными кольцами: пусть сначала продаст…» Она признается: «О, как я бы хотела читать ДАРОМ и всем подарить по серебряному кольцу. Но я, Вера, теми «кольцами» – «пускай продаст» меньше уязвлена, чем удовлетворена: формула буржуазного (боюсь еврейски-буржуазного) хамства» [36]. И – эгоизма, «нахрапистости», «безумия рационализма» и скупости, даже к ближним: бабушка «80 лет, и вся в заплатах» у евреев-эмигрантов, «немецких Ротшильдов – банкиров», «гамбургских миллионеров, если не миллиардеров» [37: 274]. У них Аля «за 150 франков в месяц обучала французскому – и всему, до мытья ушей включая – троих детей и их 80-летнюю бабушку, главную банкиршу (ее – только французскому)» [38]. Похоже, определенный «вклад» был внесен еврейским окружением дочери в разлад, тяжело переживаемый М. Цветаевой. Она не может смириться и с работой Али в качестве «помощницы помощника» зубного врача, того самого, что – о кольцах, не может удержаться от горького: «евреям льстит, что у них служит моя дочь!» [39: 182]. А если еще вспомнить, перечислить случаи горчайших разочарований в «друзьях» – евреях, которым отданы искренние, глубокие чувства, многие дни и даже – годы, несовпадений, обманов, от чего – острая боль?.. Так что, не беспочвенно ни тяготение, ни – увы – презрение.
«Нация – в плоти...» «Страсть к еврейству», – написала Марина Цветаева. Для меня – несомненно, что здесь – о яростной революционности М. Цветаевой 1905-1907 годов. В связи с чем, кстати, она с сестрой, Анастасией Цветаевой, были лишены матерью возможности распоряжаться наследством: «...а вдруг, когда вырастут, "пойдут в партию" и все отдадут на разрушение страны. Деньги кладутся с условием: неприкосновенны до 40-летия наследниц». «Так и пропали у меня 100 тысяч...», – писала М. Цветаева [42: 320-321]. «Дворец Искусств» – детище революции «на Поварской», в «литературное отделение» которого была вынуждена вступить Марина Цветаева после смерти младшей дочери Ирины (давали «дешевый паек»). Контролировалось «заведующим литературным отделом Наркомпроса» Валерием Брюсовым. Непросты отношения Цветаевой с этим поэтом. В 1924-м, в очерке Герой труда Цветаева напишет: «Два слова еще о глубочайшем анационализме (тоже соответствие с советской властью) Брюсова. Именно об анационализме, мировоззрении, а не о безродности, русском родинно-чувствии, которого у Брюсова нет и следа». В сноске: «Безродность, безысходность, безраздельность, безмерность, безкрайность, безсрочность, безвозвратность, безоглядность – вся Россия в б е з.» И дальше: «Безроден Блок, Брюсов анационален. Сыновность или сиротство – чувствами Брюсов не жил (в крайнем случае – "эмоциями"). Любовь к своей стране он заменил любопытствованием чужим...» [43: 550]. И... – определял в те годы судьбы русской поэзии!.. В этой же, глубокой работе Марина Цветаева скажет: «Нация – в плоти, бесплотным национальный поэт быть не может (просто-поэт – да)». И – «Народная песня не отказ, а органическое совпадение, сращение, созвучие данного "я" с народным» [43: 547]. Обращение в стихах Бузина: «Новоселы моей страны! Из-за ягоды бузины...», выделение слова – не указание ли и на второй смысл слова «буза» – не «бродящий, опьяняющий напиток», а – «непорядок», «волнения»? Определение его как «яда», слова: «Бузина – цельный край забрала / В лапы: детство мое у власти» и – признание: «Нечто вроде преступной страсти, / Бузина, меж тобой и мной» – информация к размышлению? И кто же такие – эти «новосёлы»?.. Снова вспоминаю Василия Розанова: «Как я смотрю на свое "почти революционное" увлечение 190..., нет 1897 – 1906 гг.? – Оно было право. Отвратительное человека начинается с самодовольства. И тогда самодовольны были чиновники. Потом стали революционеры. И я возненавидел их» [44: 330]. В очерке Пушкин и Пугачев (1937) М. Цветаева сформулирует: «Нет страсти к преступившему – не поэт. (Что эта страсть к преступившему при революционном строе оборачивается у поэта контр-революцией – естественно, раз сами мятежники оборачиваются – властью.)» [45: 387]. Вот это последнее – очевидно – в уникальной, актуальной «лирической сатире», поэме Крысолов (1925), печатающейся сегодня в некоторых изданиях со значительными купюрами, к сожалению. В частности, опускаются строфы, где – о «бессовестных», «нахрапистых», «обшарпанных» крысах с их: «Глав – глад», «Глав – гвалт», «главглот», «главблуд», «главхвост», «главсвист», «Наркомчерт, наркомшиш – / Весь язык занозишь!», невыговариваемым «Интернацио…» С характеристикой:
Вспоминаю Ф.М. Достоевского: сопоставление им требований «свободного выбора места жительства» для евреев и крепостной зависимости, которой евреи не знали, стеснения «полной свободы выбора места жительства и для русского простолюдина»; его – об уважительном отношении русских к евреям, к особенностям их молений. «И что же, – пишет Достоевский, – вот эти-то евреи чуждались во многом русских, не хотели есть с ними, смотрели чуть не свысока (и это где же? в остроге!) и вообше выражали гадливость и брезгливость к русскому, к "коренному" народу». Ох, не случайно «иногда входила в голову фантазия: ну что, если б это не евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80 миллионов – ну, во что обратились бы у них русские и как бы они их третировали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили ли прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до окончательного истребления, как делывали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю? Нет-с, уверяю вас, что в русском народе нет предвзятой ненависти к еврею, а есть, может быть, несимпатия к нему, особенно по местам...» Но: «происходит это вовсе не оттого, что он еврей, не из племенной, не из религиозной какой-нибудь ненависти, а происходит это от иных причин, в которых виноват уже не коренной народ, а сам еврей» [47: 448, 449]. И признает: «...все, что требует гуманность и справедливость, все, что требует человечность и христианский закон, – все это должно быть сделано и для евреев». Но если они останутся «во всеоружии своего строя и своей особности, своего племенного и религиозного отъединения», то – не получат ли «нечто большее, нечто лишнее, нечто верховное против самого коренного даже населения?» [48: 451]. Вот и – «страшась прошу»... Понимаю, принимаю желание М. Цветаевой, дабы Генрих Гейне «заглушил во мне всех моих современников...» Повторюсь: было что заглушать. Как и нам, увы... В том числе, непонимание (нежелание понимать!) «не своих», категоричность суждений. «Даже свободолюбивый и многотерпеливый Короленко, – писал Солженицын, – наряду с сочувствием к евреям, страдающим от погромов, записывает в своем дневнике весною 1919 года: "Среди большевиков – много евреев и евреек. И черта их – крайняя бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и раздражает"» [49: 89]. И Цветаева напишет о «безумном письме» из Лондона «от еврея-красноармейца-поэта, прочитавшего мои записи в "Современных записках" и негодующе вопрошающего меня, "почему я ушла от них"». «Нужно быть идиотом (этого не пишу), чтобы после "Георгия", стиха к Ахматовой и "Посмертного марша" в Ремесле не увидеть – кто я, мало того: вообразить, что я "с ними"» И – «Думаю, что молодого человека больше всего задело еврейское в "Вольном проезде", – сам он Leo Gordon, а тут все Левиты да Зальцманы – не вынесла душа!» [50: 705]. О, почитайте «Вольный проезд»! Почему-то не включены эти дневниковые записи в солидный однотомник, где «собраны все поэтические и прозаические произведения замечательного русского поэта Марины Ивановны Цветаевой», как свидетельствует аннотация (курсив мой – Л.В.) Очень колоритная вещь, живое свидетельство обстоятельств и нравов, яркое полотно, запечатлевшее лица и рожи, «триумфы и беды» в тылу «взвихрённой Руси» по Алексею Ремизову, Руси 1918 года. Вынужденные «мешочники», очаровательный синеглазый и белокурый георгиевский кавалер «Стенька Разин», новые «хазяева» – реквизаторы, их мамаши. Иных ждет ближайший расстрел, ибо: «Левит на Каплана донес, а на Левита – Каплан донес. И вот, кто кого.» Несомненно, и о страницах Вольного проезда пишет Цветаева Бахраху: «Рифы этой книги: контрреволюция, ненависть к евреям, любовь к евреям, прославление богатых, посрамление богатых, при несомненной белогвардейскости – полная дань восхищения некоторым безупречным живым коммунистам». «Здесь все задеты, все обвинены и все оправданы. Это книга ПРАВДЫ». «Книгу эту будут рвать (зубами!) все... кроме настоящих, непредубежденных, знающих, что ПРАВДА – ПЕРЕБЕЖЧИЦА. А таких мало...» [2: 559]. И по сей день – мало. Впервые опубликовано на сайте «Российский писатель» Людмила Борисовна Владимирова, канд. мед. наук, член Союза писателей России (Одесса) (Продолжение следует) Сентябрь 2017, Одесса.
Примечания 1. Марина Цветаева. За всех – противу всех! – М.: Высшая школа, 1992. 383 с. |