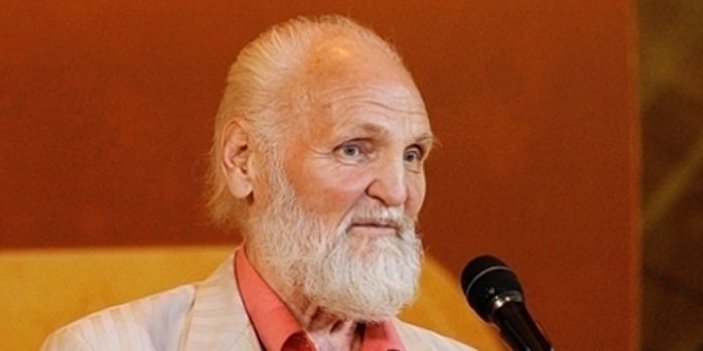
Почти всю мою последнюю жизнь, то есть лет двадцать, меня постоянно не то, чтобы уж очень мучают, но посещают мысли, что я, еще, в общем-то, ни до чего не дописавшись, уже исписался. И не то, чтоб исписался, а весь как-то истратился, раздёргался, раздробился на части, на сотни и сотни вроде бы необходимых мероприятий, собраний-съездов-заседаний, на совершенно немыслимое количество встреч, поездок, выступлений, на сотни и сотни предисловий, рекомендаций, тысячи писем, десятки тысяч звонков, на все то, что оказывалось потом почти никому не нужным, но что казалось борьбой за русскую литературу, за Россию.
Но меня утешала мысль, что так, по сути, жили и все мои сотоварищи по цеху. Слабое утешение слабой души. Всё почти, что я нацарапал – торопливо, поверхностно. Когда слышу добрые слова о каком-либо рассказе, написанном лет сорок назад, кажется, что говорят так, жалея меня, сегодняшнего. Похвала давно угнетает меня. Быть на людях, быть, как говорят, общественным человеком очень в тягость. Ощущение, что поверили не мне, а чему-то во мне, что могло им послужить. Вот, обманываю ожидания. Тут даже написалось нечто на тему:
Как будто и не жил, натурил
И своё счастье упустил.
Сам виноват – литературил:
Рассказничал, миниатюрил,
Статейничал и повестил,
И постоянно говорливил,
И с кем попало ел и пил…
И ни семьи не осчастливил,
И состоянья не скопил.
Что ж, присно каюсь – сам виновен,
Что гибну под лавиной строк.
Но, может, путь мой был духовен,
И, даст Бог, оправдает Бог?
Вот только на это и надеюсь, на оправдание. Жизнь моя крепко срослась с жизнью России, что я не могу уже ни о чем писать, кроме как о своем Отечестве. Но так может писать и историк, и философ, а я-то числюсь по разделу изящной словесности. Да, кажется, есть чем отчитаться перед Всевышним: боролись за чистоту российских вод, за спасение русского леса, за то, чтоб не было поворота русских рек на юг, за преподавание Основ Православной культуры… боролись же! Крохотны результаты, но уходило на борьбу и здоровье, и сама жизнь. Обозначено же в алтаре Храма Христа-Спасителя, что и аз грешный начинал возрождение его. Вот и награда Церкви – орден. И можно внукам показать.
Но и что? И золотятся, купола, и издается Священное Писание, и труды Отцов, и всё свято-русское наследие доступно, а жить всё тяжелей и тяжелей. Россию ненавидят, Россия гибнет. Уже кажется, что нет нам, любящим Россию, оправдания. Мне особенно. Но тут же себя одёргиваю: «А ты как хотел? Чтоб всё тебе с неба упало? Нет, мы ещё не до крови сражались, как говорится в апостольском слове. И ненависть к нам означает награду для нас. Это не к нам ненависть, а ко Христу. Всегда же так было. Распинали, ломали кости, сдирали кожу, требовали отречения от Христа, поклонения кумирам.
А что есть теперешнее издевательство над всем святым? То и есть, что это пытки, которые нам надо вытерпеть.
И дождёмся же царя Константина православного.
ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ И ЗАПАДЕНЦЫ
Служил я три года в нашей победоносной Советской армии, и никакой дедовщины и видом не видывал. Ну да, были и старики, были и салаги, естественно. Но, чтобы старослужащие издевались над новобранцами – никогда! Знаю, что говорю, я дослужился до старшины дивизиона.
Но вот одну весьма милую шутку из армейской жизни сегодня вспомнил, когда дети спросили: «А какое у вас были раньше первое апреля?» Тут я строго ответил, что первое апреля – это время Великого поста, какое тут веселье? Но коротко запишу давний розыгрыш.
В дивизион осенью пришло пополнение – хлопцы с Западной Украины. Ребята на службу рьяные, особой возни с ними у сержантов не было. Даже до сих пор некоторые фамилии помню: Доть, Аргута, Коротун, Титюра, Балюра, Тарануха, Поцепух, Копытько, Падалко. Одним только выделялись - сильно любили поощрения.
- Товарищ старшина, вы же ж сами дуже хвальны были за наряд по кухне.
- И шо ж с того? – спрашивал я.
- Тады же ж мабуть благодарность перед строем треба размовить.
- Мабуть иди, - сурово говорил я. – Награды в нашем славном ракетном дивизионе не выпрашивают, их, когда надо, дают. И, когда надо, вы их получите. Ясно? Или це дило тоби треба розжувати?
Ещё был такой западенец Копытько. Тощий, длинный, прожорливый. Стоял правофланговым. То ли он специально косил под неграмотного, то ли подделаны были его документы, иначе как бы он попал в ракетную часть, но служил с нами. Его никуда было не назначить, всё напортит. В караул посылать боялись, ещё пристрелит кого. Держали в дневальных, всё на виду. Приказано было с ним заниматься, пройти хотя бы семилетку. Копытько приходил ко мне и жаловался на сержанта Кощеева, который вдалбливал ему начатки алгебры:
- Товарищ старшина, сержант Кощеев говорит, что плюс на плюс даёт плюс, то я верю, говорит, что плюс на минус даёт минус, то я тоже верю, но товарищ старшина, сержант говорит, что минус на минус даёт плюс. Дывитесь, яка заковыка. Чую, брешет. Я же ж ще с глузду не зъихав.
Так и вижу доселе, как Копытько с тряпкой ползёт вдоль плинтуса, как завидя меня, радостно сообщает:
- О тож так зробляли копийки при царе.
- Как?
- На колинях.
Но в чём Копытько испытывал явное превосходство над русскими, так то, что мы, по его мнению, ни за что не сможем выговорить слово «паляныця».
- Ну и что, - отвечали ему, - мы, что ли, помрём без этого?
Мои сержанты, третьегодники, задумали на первое апреля нижеследующую шутку.
Они пошли, тайком от меня, в штаб к знакомой машинистке и умолили её напечатать на чистой странице, даже не на служебном бланке, приказ о досрочном присвоении звания ефрейтора всем нашим первогодкам. «В связи с тем, - значилось в приказе, - что нижепоименованные рядовые показали себя образцовыми в деле воинской и политической подготовки, в дисциплине, в несении нарядов по внутренней и караульной службе… и дальше шли фамилии фактически всех новобранцев украинского призыва».
Сержанты поклялись машинистке, что никто из офицеров этого листка не увидит, что его вернут ей и при ней уничтожат. Парни были огневые, красавцы: Толя Осадчий из Киева, Леха Кропотин, Илюха Деревнин, Рудик Фоминых из Вятки, уговорили. И листок ей, как обещали, назавтра вернули.
Звание ефрейтор – первичное, одна лычка на погонах. Дальше идут младший сержант – две лычки, просто сержант – три лычки, старший сержант – одна широкая и так далее.
Обычно после ужина я, влюблённый в библиотекаршу, убегал в библиотеку, оставлял дивизион на дежурного. Если что, всегда знали, где меня искать.
Сержанты, привели дивизион с ужина и, не распуская строя, объявили что поступил приказ о присвоении воинских званий, его торжественное оглашение будет завтра на общем построении, но надо к этому торжеству подготовиться, то есть пришить лычки. Тем, кому звания присвоены.
- Приказ можете прочесть на доске Почета в ленкомнате.
Почему на доске Почета, а не у тумбочки дневального, это тоже было продумано: не хотели подставлять ни дежурного, ни дневального.
Строй распустили, все кинулись читать приказ. Радостные крики оглашали казарму. Друзья мои, сержанты, объясняли, что это такая особая честь только нашему дивизиону, а мы и правда только что хорошо провели учебные стрельбы, и что, конечно, это редкость редчайшая, чтобы военнослужащие получали звание так быстро, но тут особый случай, дорогие товарищи новобранцы.
Словом, сели салаги за иголки и нитки. Лычки им отмерил каптенармус Пинчук. Погоны новые выдал он же. Он же и собрал вскоре эти погоны, но уже с пришитыми лычками. Сказал, что раздаст утром, на построение. К слову заметить, доселе удивляюсь, что украинцы всегда занимали каптёрку, хлеборезку, вещевые и продовольственные склады, а в караул - через день на ремень - и на позицию шли вятские да уральские, да сибирские.
Итак, никто не заметил, что приказ скоро исчез с доски. И я, прибежавший проводить отбой и читать наряд на завтра, о нём и понятия не имел.
Вообще я потом даже сетовал парням, что меня не ввели в курс розыгрыша, но парни объяснили, что не хотели меня подводить. Утром, после завтрака, перед построением, сержанты ввязали меня во всегда непростое распределение нарядов на будущую неделю по батареям и взводам. И так спорили и ссорились, так тянули время, что дотянули до развода. Я оторвался от бумаг:
- Парни, ну что это вы сегодня? Крикните дежурному: объявить построение.
Вскоре дежурный заскочил в дверь:
- Старшина – комдив!
Выскочив на крыльцо, я привычно, как смотрит на строй любой старшина, мгновенно отметил выровненные по линии носки начищенных сапог, скользнул взглядом по гимнастеркам, заправленным в ремни, по блестящим бляхам, по головным уборам – звёздочка посередине лба - и зычно скомандовал:
- Див-зьён! Р-рясь!... Ир-но! Равнение напра-о!
И чётко, по-строевому, пропечатал несколько шагов навстречу нашему подполковнику.
- Тарщ подполковник, вверенный вам дивизион на утренний осмотр и развод построен! Старшина дивизиона…
И увидел вдруг взгляд подполковника. Он просто вытаращился, но не на меня, а на выстроившихся солдат. Я невольно тоже поглядел и… и чуть устоял – в первом ряду стояли сплошь ефрейтора. Все в новехоньких погонах с одной красной лычкой, все очень радостные. Особенно сиял Копытько. Они были готовы гаркнуть; «Служим Советскому Союзу!».
- Это кто у тебя в строю? – ласково спросил комдив.
- Понятия не имею, - искренне ответил я.
- А сам ефрейтором быть не хочешь? – поинтересовался комдив.
А дальше? Дальше пошла разборка. Таскали к комдиву и сержантов и «ефрейторов». Все честно говорили, что был приказ. Был. «Вот у туточки, у рамочке». И все это подтверждали.
Но уже во всей части шел такой хохот, так всем понравился наш розыгрыш, что, конечно, было глупо истолковать его как преступление, как чей-то злой умысел или тому подобное. Дежурному сержанту влепили внеочередное дежурство, только и всего. Это ж в тепле, в казарме – это не караул, не круглосуточное бдение на позиции. Я сказал комдиву, что буду рад, если с меня снимут хомут старшины, и что вообще готов в любом звании служить родине. Тем более мне уже надо было готовиться к приёмным экзаменам в институте.
- Перекрестись, что не знал про «ефрейторов», - велел комдив.
Я выполнил приказ, перекрестился.
Мы думали, что и «ефрейтора» не будут обижаться. Но вот как раз они-то и обиделись. Очень обиделись. И то сказать – только что ощущали на погонах лычки и нет их, сами же и спарывали. О, лычки для них много значили. Даже сфотографироваться не успели.
- Кляты москали, - возмущались они.
Но мы не обижались. Я вообще искренне думал, что меня это прозвище
возвышает. То всё вятский был, а тут уже москаль. В звании повысили.
Вот такое было армейское первое апреля.
О, друзья мои, западэнцы. Однополчане! Братья славяне! Рады вы, что вытворяют на ридной батькивщине ваши дитыны?
ВИНА ПЕРЕД ДОНБАССОМ
«Июльская жара», повесть Димитрия Юдкина, настолько проста и доходчива, что совсем не замечаешь, что это литературное произведение. Ты с первых строк входишь в жизнь сегодняшнего Донбасса и живёшь в ней вместе с героями.
Идёт Алексеевна в магазин, и мы с нею. Идём и всё видим: жаркий день, и следы обстрелов, и вникаем в её нелёгкие думы. О детях, о войне. Вместе с Алексеевной встречаем Захаровну, вот уже и Захаровна приходит в нашу жизнь. И магазин - деревенский клуб, измученная продавщица, непутёвый пьющий парень, дорога обратно, встреча с добровольцем Николаем, которого Алексеевна помнит ещё малышом в коляске. И опять её страдания о младшей дочери - красавице: связалась с «бандерой», оставила ей трехлетнюю любимую внучку Светочку и ускакала за ним. А до того были у неё мужья, работящие, заботливые, да вот, что ты с ней будешь делать - выбрала Васыля, хоть он и моложе на десять дет…
И таков талант автора, что, доверяясь ему, мы уже дальше живём в пространстве повести. Почти физически ощущаем обстрелы, убежище, страхи и радости внучки, соседки девочки, которая уже и по хозяйству помощница, нянька надёжная.
Алексеевна подходит к фотографиям родных, живых и умерших, говорит с ними, и мы почти вживую видим их: и мужа Степана, и свекровь и свекровку, и зятя Алексеевны, который мужик в полной силе, а вот не пошёл в добровольцы за родной Донбасс, не как молодой Колька.
За что, за какие такие провинности обрушилось на нас это горе - эти смерти стариков и детей, эта оголтелая ненависть «укров» к русским? И вместе с Алексеевной мы мучительно понимаем, что война с немцами была совсем другой войной, здесь славяне идут на славян.
«Да как же это так, что эти упыри никак не нажрутся, не напьются крови?»
И нам, русским, это огромное страдание - гибель братьев и сестёр. Мы доверчивы: верим, что вот-вот закончится это противостояние, Минские соглашения будут выполнены, президенты договорятся, выполнят свои обещания, и девочка Светочка побежит с подружками в детский садик по улице, на которой не будет воронок от снарядов, а только цветы и деревья по сторонам.
А пока кровь и слёзы, и постоянное враньё на всех уровнях. Размышления Алексеевны, конечно, это авторские раздумья о родине, но они усиливаются её здравым народным умом. Раскатывает тесто, а мысли её далеко улетают. Откуда майдан? Почему майдан? Как смогли стравить людей? Все эти Кравчуки, Януковичи, Порошенки, Тягнибоки, Аваковы, Ляшки?
Заслуга автора ещё и в том, что он, называя подлинные события, реальных людей, сохраняя строгую документальность повествования, пишет художественную прозу. Это редкая удача. Такова одарённость автора. Несомненно она ему как награда за его любовь к страдающей в наше время славянской земле.
Чем мы можем помочь отсюда, из России? Конечно, участием в гуманитарной помощи. Но это так мало. Не в наших силах повлиять на недоступных нам политиков, говорящие головы которых плавают на голубых экранах. Кто мы такие для них?
Но есть наша помощь, и она действенна. Она в молитве. В православных храмах на каждой Божественной Литургии она читается перед Херувимской песнью. И в своих домашних келейных молитвах нам нужно помнить о Луганске и Донбассе, о Новороссии.
Книга Димитрия Юдкина необходима для прочтения, особенно для тех, кто хочет знать правду о событиях на Юго-востоке сегодняшней Украины. Здесь и документальность происходящих событий и их художественное осмысление.
Не холокост, а холокосты
Надо учиться у евреев защищать свою нацию. Они много перестрадали в своей истории, конечно, болят их раны, разве кто-то будет возражать против этого? Зависть берёт, с какой энергией они заставляют власть предержащих заниматься их делами. Давно ли «Комсомольская правда» нам любезно сообщала, что на изучение в школе еврейского Холокоста отведено 72 часа. Больше, чем на изучение русского языка.
Но тогда надо изучать и белорусский Холокост. В Белоруссии не осталось сельсовета, в котором бы не сжигали по три , по четыре деревни. И сжигали однотипно – загоняли жителей от мала до велика в один сарай и поджигали.
И обязательно надо изучать и страшную армянскую трагедию – турецкую резню начала двадцатого века.
А середина двадцатого – Холокост в Кампуччии.
И что тогда устроенный французами алжирский Холокост.
А непреходящая боль за сербский Холокост, (напоминать ли о Талергофе?)
Испанская инквизиция? Столетняя война? Варфоломеевские ночи?
Или украинский голодомор. Был он? Несомненно. Но не кляты же москали его содеяли, тот же Каганович. А русский голодомор в Поволжье?
Везде счёт на миллионы. Или там погибали не люди, а манекены, и лилась не кровь, а клюквенный сок? Или в мире учитываются только еврейские страдания?
И, наконец, самый страшный Холокост всех времён и народов – Холокост Русский. Вот что надо изучать в российских школах. Изучать так: если бы не русские жертвы – не жить бы и не быть на планете и евреям.
Или не так?
И слышен уже из глубин начала Новозаветного времени возглас: «Других спасал, себя разве не может спасти?» Это о России на Кресте.
Мы вышли из тоннеля
«Благодарим Тебя, Господь, мы вышли из тоннеля», - это из песни православной певицы матушки Людмилы Кононовой. Песня о сбившихся с жизненного пути молодых людях, о том, как они блуждали в потёмках блуда, наркомании, неприятия родительских наставлений, но вот - Господь просветил, они выходят на свет Божий.
Хотелось бы этот пример перенести на наш выход из тоннеля нашедшей на нас заразы вирусного времени. Перетерпели. Вышли. С потерями, но вышли.
Что-то же изменилось в нас. Не могло не измениться. Не говорю за всех, но православных крепко тряхнуло. Легко ли: идёшь в храм, а он закрыт. Тут враз вразумишься.
Главное: подтолкнуло поляризацию общества. Она и так всё время шла, а нынче ускорилась. Поляризация эта одна: она делит людей на тех, кто за Христа и на тех, кто против.
Люся
Одноклассник, друг мой Васька (он спустя годы был председателем райисполкома и погиб в автокатастрофе) любил десятиклассницу Люсю. Я бы её тоже любил, но я был моложе Васьки на два года. Во-первых. Во-вторых, я просто представить не мог, как это - любить Люсю, я просто робел пред ней и замирал от её красоты. И чтобы она на меня посмотрела хотя бы, да вы что!
Но Васька был посмелее. Он красавец, выступал на сцене, пел и декламировал. Мы играли в школьном театре. Конечно, Васька был на первых ролях. Помню, как Васька, играя папашу невесты, вздымает руки, вдоль которых ниспадают широкие рукава реквизитного халата и вопит: «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом?»
Но это он на сцене герой, и с нами на реке и у костра смельчак, а к Люсе приблизиться тоже боялся. Но решился, придумав какой-то предлог, зайти к ней в дом. Один, всё-таки, не посмел, уговорил меня.
Идём. Чувствую, Васька трусит. Как и я. У её дома клумбы и грядки, цветы и рассада. Весенние экзамены. Люся сидит над билетами. Она в лёгком летнем сарафане. Косы перекинуты на грудь. Весело здоровается. О чём они говорят с Васькой, я забыл.
Но вот это ощущение присутствия в мире красивой девушки, сквозная, летящая чистота от её платья, русых волос, свежесть из распахнутого окна, цветы под окном, замирание дыхания от восторга, вспоминалось потом.
Сегодня узнал, что уже ровно вторая годовщина со дня прощания с ней.
Люся и похожие на неё девушки, а их много, приходят в этот мир, чтобы принести в него чистоту. И пока они есть, эти девушки, никакой пошлости и разврату не выжить в этом мире.
Мальчик и камень
Мы устанавливали Крест на истоке реки Вятки. Мужчины несли огромный Крест, иконы и хоругви, а всех остальных батюшка просил взять по камню, чтобы укрепить Крест. Исток был на болоте.
И навсегда запомню мальчишку, который выбрал камень, даже по виду тяжелый и потащил. Пожалев его, я сказал: «Возьми камень полегче». - «Донесу», - ответил он.
И когда шли по болоту, а это долго и трудно, проваливались в воду, насекомые тучами жужжали и кусали, я иногда оглядывался и видел, что мальчику тяжело: у него же руки заняты, его тоже кусают, и не отгонишь этих кровососущих: руки заняты, а он идёт и идёт. И даже подпевает молитвам.
Дошёл, миленький! Положил свой камень ко Кресту, напился и умылся из истока реки своей родины. Сел на траву, глубоко дышал и радостно улыбался.
Этот мальчишка для меня - символ моей будущей России.
И символ и пример. Он терпел жару, усталость, укусы насекомых, жажду, но шёл, нёс свой камень к подножию Креста.
Будем подражать этому мальчику, понесём камни своих трудов ко Христу. Да, тяжело, да много гнуса вокруг. Но все равно же надо идти и дойти. И жажду утолим, и усталость пройдёт. А следы укусов - это награды.





















