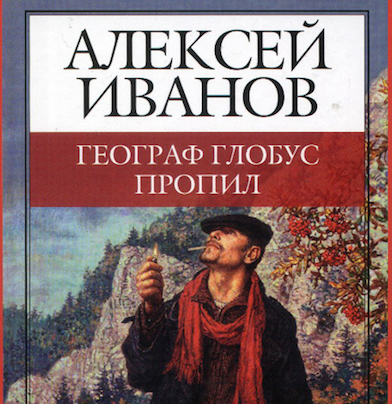Речь пойдёт о малоизвестном провинциальном писателе, написавших три небольших книги прозы, с не очень хорошим здоровьем, попивавшем слегка, живущем не совсем прочно в семейной жизни, но твёрдо знавший своё природное назначение... И который, конечно же, не опережал время, а полностью и неотступно был верен только ему, как позиционно, так и сюжетами своих рассказов...Тем сейчас и интересен. Не разбросанной, уверенной стилистикой - старательской с индивидуальной доверительной верой к национальному слову и через эту доверительность и сердечность предстаёт перед читателем.
Наверно, поэтому он и вписывается в самую суть отечественной литературы определённого времени, которую обозначили его известные предшественники. Когда Кинёв ещё учился в институте появились «Ухабы» В. Тендрякова, «Овраги» С. Антонова, «Рычаги» Александра Яшина... «Пряслины» Фёдора Абрамова... Как не странно, творчество Кинёва больше напоминает именно этих почвенников, а не тех, которые появились позже: В.Белов, В.Распутин, В. Шукшин... Они бы больше подходили ему по возрасту...
Но Слово Фёдору Абрамову: «Старая деревня с её тысячелетней историей уходит сегодня в небытие. А что это значит - уходит старая деревня в небытие? А это значит, рушатся вековые устои, исчезает та многовековая почва, на которой всколосилась вся наша национальная культура: её этика и эстетика, её фольклор и литература, её чудо язык. Ибо, перефразируя известные слова Достоевского, можно сказать: все мы вышли из деревни. Деревня - наши истоки, наши корни. Деревня - материнское лоно, где зарождался и складывался наш национальный характер. И вот сегодня, когда старая, деревня доживает свои последние дни, мы с особым, обострённым вниманием вглядываемся в тот тип человека, который был создан ею, вглядываемся в наших матерей и отцов. Дедов и бабок.». (Фёдор Абрамов «О хлебе насущном и хлебе духовном», «Наш современник» 1976 г. И «Наш современник», 2015, №1).
Повтор в журнале не случен. И я тоже не зря процитировал эти строки, потому что Николай Кинёв, идя вслед за этими писателями, как бы из последних сил старался сохранить нам добрые традиции праведных страданий, эту почвенническую духовность, хотя его и их время познало много неестественных сломов и перекосов этих традиций, но которые ещё вполне можно было держать... Поэтому он упорно работал за сохранение именно своего времени, которое, вот - вот должно был обрушиться, но ещё удерживалось в жизни. А жизнь была голодной и холодной, но удивительно нравственной! (О чём и речь). Плеяда эх писателей была последовательно верна традициям военной исповедальной и праведной прозе военных писателей В.Астафьева, Константина Воробьёва, Виталия Богомолова...
С верой в лучшие времена. Кинёв сохранил немало от этой непосредственной жизни с его «чудо языком» по Абрамову, а также и по Кинёву. В этом не раз придётся убедиться.
Аналитическо - подтекстовая, можно сказать, исследовательская своё время, проза писателей В.Белова ( «Плотницкие рассказы», Воспитание по доктору Споку» , «Всё впереди»...); В.Распутина «Прощание с Матёрой», «Пожар», «Мать Ивана - дочь Ивана»- не пустили ни с какой стороны прозу Кинёва, ибо ей было ещё не время появляться...И наступи хоть раз он на это трескучее, горбачёвское слово «Перестройка», то не поднял бы Кинёв о своем времени (оно его только ранним детством) столько непосредственной духовной приподнятости своими рассказами.
Проза писателя Николая Кинёва на редкость лирична в смысле исповедальной тональности, поэтому, наверно, и является глубоким созданием своего художественного мира.
Получив образование в городе, пожив и поработав в нём, писатель, кажется, ещё более утвердился в своей деревенской теме, привнося в неё и свой городской опыт, культуру.
И надо ли напоминать, что проза почвенников первой и второй волны - ведущей остаётся и поныне.
Человек от земли, от природы остаётся и на сегодняшний день интереснейшим явлением жизни, нравственным и этическим мерилом, коренным и кровным представителем нации, хранителем национальных традиций. Ведь люди от земли шли в науку, в искусство, командовали войсками и флотом, запускали космические корабли... Земля - то место, где мы все живём, независимо в городе или в деревне, земля нас кормит и одевает, она даёт нам душу и представление о Родине.
В эпоху сплошной модернизации - любой самый модернизированный город стоит на земле, о чём мы, порой, уже забываем.
В жизни всегда существует естественное начало, как добра, так и зла. Не проживёт древесный червь без древесной коры, дерево со своей корой проживёт прекрасно без червя. Эти добро и зло от природы, но вряд ли всегда необходимы друг другу. Но истинный писатель всегда рассматривает жизнь в таком естественном противоречии. Вся благостная, сытая жизнь Вилесовых из повести «Старая Баня» червоточит лицемерием, ханжеством, изменой себе, людям. То есть представляет собой не простой узел противоречий из нескольких родных судеб. Где главное - отношения между поколениями, их необычное, нелогичное на первый взгляд развитие. Мы привыкли к тому, что новое, молодое всегда прогрессивно. Прогресс, однако, всякий бывает. Кинёв нам показывает - как сильно и глубоко может быть поражена душа молодого человека - и стяжательством, и эгоизмом...
Бывший организатор колхоза и комсомольской жизни на селе, отец управляющего ныне в колхозе председателя, дед студента сельхозинститута, достигший глубокой старости, преследуемый недугами, оказывается определённым на доживание своих дней в старой бане, поскольку была от него «вонь на весь дом» в новом доме его сына, председателя колхоза. Да потому «вонь», что не помогают вовремя помыться, наверное. (Типична ситуация зажиточных сельских людей по отношению к бывшим коммунистам). Старик всеми забыт, попросту. Но не забыт, видимо, по-издевательски.
В нашей литературе появилось много произведений о брошенных матерях или отцах, имеющее частое место в жизни. Пожалуй, самое талантливое из них «Последний срок» Валентина Распутина. Но это были просто забытые матери и отцы. Кинёв показывает: насколько всё может оказаться пагубней, если эгоизму и стяжательству создать благоприятные условия. Новые просторные дома, высокие заборы, отчуждение от соседей. Незаметно, кажись, даже для своей семьи, состоящей из четырёх человек, обедавших некогда за одним столом, исчезает один. Самый старый и самый слабый на харчи из подачек, из объедок, приносимых ему в старую баню хозяйкой дома, его снохой, крепкой и ладной, сорокалетней женщиной, олицетворением себялюбия хорошо живущей, как правило, за чужой счёт, не знавшей удержу в улучшениях своего быта, не гнушавшейся никаких средств. (Кстати, до «новых русских» оставалось ещё лет тридцать, но «процесс» уже, видимо, пошел). Жизнь некоторых тогдашних зажиточных людей уже давно «стояла на костях» предков. А новый дом Вилесовых «с первозданным сосновым запахом», с пахнущими всеми явствами столом, становится поистине логовом эгоистов самого современного обличия, где самый молодой старается уже всех переэгоистить, как всегда бывает среди эгоистов:
«В общем - то, конечно - буду командовать: не своим отцом, так другими - подумал Алёша, загребая ложкой белосмородиновое варенье».
Будет он командовать и отцом, и матерью, и женой, и другими...командовать, надо понимать, не лучшим образом командовать, если ему позволят. Как и мать, для себя он никого не пожалеет. В повести Алёша таким и остаётся. Ведь таких, как он, потом прибудет и станет видимо-невидимо.
Теоретическая основа Произведений Кинёва не просто согласуется с жизнью, но диалектически исходит из неё, поэтому и диалект в его произведениях, перемешанный даже с самой крутой «отсебятинкой» не кажется мнимой смелостью, стилизацией, а художественным фактом, реально отражающим мир героя. Шурка пастух из рассказа «Черёмуховые холода», бойкий парнишка лет пятнадцати, которому деревня доверяет целое стадо коров, может быть, штук до ста. А что такое корова в семье - все были прекрасно осведомлены по тому времени. Даже козу и то называли - кормилица! О корове и речи нет. Стадо коров. Тут и мужик не каждый справится, поэтому Шурке надо быть очень смелым и не глупым человеком.
А он такой и есть. И новичку Косте (Костянтину по Шурке) объясняет работу свою, а теперь и его работу практически:
- Ты давай, едрие лять, привыкай. Перво-наперво надо засобачить в голову всех коров, которую как зовут. Я тебе назову, потом уж сам знай: Бурка дак бурка, Фонтазия дак Фонтазия, чтобы без ошибки. Как станет корова бызгать, а то на клевера пойдёт - ты на её с матька по имени зухай; она повернёт башку, шары на тя уставит - ты тем временем её и обгоняй. Ну, дак вот, смотри: вон та рядом, комолая, - Дунька; а ишо с ней рядом, с горошинами-то на брюхе, - Майка; а вон та, бодаться любит, вон - вон, на корову-то скачет(чё ты скачешь, Фанерка, чё ты бык ли чё ли?) - Фанерка. А вон та...».
Грубоватая материальность, предметность здесь находится в тесной взаимосвязи с народно-фольклорным юмором по восприятию (не столь по отражению) окружающего, где обыденность (самая плоская) стоит рядом с чем-то необыденным, не ординарным, как это любит называть народ: «Бурка дак Бурка, Фонтазия дак Фонтазия», - точно подмеченная, я бы сказал, прочувствованная черта отношения в жизни. Как к земному, так и к чуть возвышенному. Всё народное творчество стоит на этом, за исключением мата,
который с годами отпадает с души человеческой. Не от каждой души отпадает.
В прозе Кинёва удивительно всё просто и необходимо, высвеченное добром, безоружным женским бытом, неприкрыто пахнущее природой и любовью: «Раздался тупой стук деревянного засова, звякнула кобылка, и Клавдия вышла. Запахло речным каким-то, словно разбавленным водой с одеколоном и ещё - стираным бельём, что ли, которое, наверное, сохло в ограде, и от руки Клавдии, придерживавшей шаль у подбородка, - земляничным мылом».
Рассказ «Ночной дождь». В прозе Кинёва всегда присутствует это «земляничное» определение природы и женщины. Земляника - ягода на земле, как символ близости человека и земли, и родственности между ними. Есть у Кинёва рассказ «Букет земляники», где, как в лирической исповеди открыты читателю сокровенные, родственные тонкие психологические связи писателя с родным краем, с матерью, с первой любовью.
Любовь Кинёва к жизни не созерцательна, не платонична, она активна и непримирима к тем, кто живёт легко и эгоистично, используя ту же природу, землю, людское доверие в своих целях.
Последняя книга рассказов Николая Кинева / Пермское книжное издательство, 2002г./ под названием «Вот тот мир, где жили мы с тобою", как нельзя, лучше определяет поэтическое воспоминание в прозе этого писателя, поскольку строка Ф. Тютчева, взятая в заглавие книги, характеризует письмо - стихотворение, адресованное поэтом своей любимой уже не живой, но также любимой. Похожее чувство испытывает герой рассказа Кинева. Иногда их страницы его буквально заполнены исповедально - молитвенным настроением, где с не совсем религиозным человеком происходит нечто божественно-потаенное, склоняющее к просветлению, к вере. Да и всякая доброта, прямота, доверчивость, чем вековечно богат наш народ, даже у людей грубоватых и явно атеистических проглядывает православная традиция.
И даже 30-40-50 годы /тяжелейшие годы! /, о чем повествует книга/, не задавили в людях этих качеств, об этом и главная забота тогдашних людей...Тем и живучи герои Николая Кинева, тем и жив сам писатель.
Вместе с осуждением тех времен, вместе с жалобой на неразумение неразумных /Кинев часто прибегает к этой православной формуле/ он боготворит эти времена! Времена своего детства. Возможно, жили хуже, но души наши были всё-таки лучше, с какими-то надеждами.
Книга начинается рассказом "Незабудки". Герой рассказа Еремей, пожилой человек, инвалид войны, схоронив недавно жену, ощущает тягость одиночества. «Поглядывал то на фотокарточку Надёжи, то на цветы, то почему-то на божницу, где стояла материна еще, икона, и непонятно было ему самому - то ли молился, то ли сам с собой разговаривал. Образ на иконе давно помутился, а Еремею все Надя мнилась, куда не глянет».
Это душа просыпается для молений, хотя еще и без веры, но уже с ее скрытой жалобой на себя неразумного: " Ну что Надёжа, делать, подсказала бы ты мне. Почему я тогда вслед за тобой не ушел?" И еще: "Никогда я раньше в Бога не верил, в силы потусторонние, в мир иной, а теперь думаю, что все равно ты где-то там, а может - рядом совсем пребываешь, только мне не видно и не слышно тебя".
Отношение к природе у Еремея стало тоже сродни молению, особенно к цветам незабудкам: " Они были того же глубокого щемящего, цвета, что и небо. Посмотришь на эту одинаковость земных цветов и небесного света - ну точь в точь, как будто дорожка к горизонту отсюда вот, от берега, и идет, как будто из одного материала то и другое. Бросай костыль, распрямляй крылья-то и туда, в голубизну эту сосущую, ненасытную... /На Руси к небу всегда трепетно относились: какая-то врожденная тяга к Богу Г.М./ Эти цветы до оцепенения, до растерянности любила Надя. Тихо постанывала, гладя на них, собирала куций букетик, протягивала Еремею".
А когда Еремей с сыном, Аркадием проезжали на машине мимо этих незабудок, то Еремей попросил Аркадия остановить машину:
"- Отлить что ли? - Недовольно спросил Аркадий.
Еремея такая "догадливость" ясно - "покоробила", но "не до этого было».
Он пошел собирать "букетик", да упал: "больная нога подвернулась".
Аркадий подбежал: "Блажь какая-то". В другом случае недогадливость Аркадия и его брата протянулась на всю юную и последующую жизнь в отношении к матери: "...зачем /казнит себя Еремей - Г.М./ было разрешать им из матери-то последнюю кровь высасывать, с жиру беситься?" Нечуткость, а то и зло от родных людей, а от чужих тем паче, - всегда окружало чистую праведную душу русского человека. Ведь сразу бросается в глаза, что герои Кинева обыкновеннейшие люди, живущие всегда по колено в житейских простых делах, обыкновенных нуждах, но знающих одно: надо жить по совести, как жили их предки, верующие в Бога, боящиеся поступить безбожно. А зло было частного, не общинного характера, но православие и община, представляющие общественные силы, всегда были за честную праведную душу. И тогда - в 30-е, сороковые, пятидесятые годы...
Советская власть сколько-то унаследовала эту традицию через колхозы, рабочие коллективы, но сама же зачастую тот сук и рубила, то раскулачиванием не по адресу, то наглыми займами не от тех экономических требований, то религиозным, почти поголовным разгромом. Но как-то все-таки еще держалась чистая душа, потому что, как-никак, была официально, хотя и формально, защищена государством. Сейчас эту душу вытаптывают километрами! Особенно - трудовой кодекс. Чистую душу иметь не запрещается, но она везде не проходная категория: она нисколько не стоит, как и раньше, но теперь над ней смеются, чего раньше было гораздо меньше. Потому- то, не глядя на все издержки, нам и дорого "еремеево" время, когда ещё в неласковом, грубом, деревенском труде виделся какой-то просвет...
Спасаясь от одиночества, /сыновья давно живут отдельно, в своих домах/ Еремей задумал жениться и сразу встретил непонимание снохи:
"- А мне че! - Якобы сдалась Любава. - Хоть все переженитесь. Я тебе, тятя, только от чистого сердца: если надумаешь, кого в дом привести, так хоть не регистрируйся, обчистит. Нынче бабы знаешь, какие пошли... "Знаю ...зло подумал Еремей.- И тебя насквозь вижу". Да, что ни говори, а "народ" уже носил в себе "перестройку". И готов уже был "от чистого сердца", как водится, приученный начальством, проголосовать... и за Горбачёва, и за Ельцина - электорат уже такой существовал...но упомяни об этом хоть раз писатель, то, возможно, и не поднял бы уже столько добра и света душевного своими рассказами, хотя первый по написанию был датирован 1964 годом, последний датирован по написанию 1999 годом. Однако, события, описанные в рассказах, не впускали это олово «перестройка» по времени. Но, видимо, не был расположен к нему и писатель, хотя это просто моя догадка.
Есть немало одиноких женщин, оставшихся после войны без мужей, без сыновей, как Антонина, сводница Еремея, не унывающих на людях, жаждущих как-то ещё пригодиться в любовном сводном деле, i раз самой уже ничего не светит, так хоть людям помочь, особенно достойному мужчине, заслуживающему, на её взгляд, лучшей участи. /Любила наверно она Еремея/. Они и алкашками могут прикинуться, лишь бы свои чистые помыслы сохранить даже от самого хорошего сглаза.
Кстати, диалог у Кинева всегда психологически точен и характерно индивидуален. Антонина говорит Еремею:
-Давай, значит, выпьем за это дело. /Она пришла с бутылкой - Г.М./.
- Да ты что! - растерялся Еремей. - Я дверь закрываю от пьяниц по - луночников, а ты... Смотри-ка!
Но всё это на поверхности. На самом деле они довольны друг другом. Еремей, доволен тем, что "невеста" какая-никакая нашлась. Правда, он до этого портрет жены на стол поставил и букет незабудок, чтобы новая женщина привыкала сразу к тому, что он Надёжу не забыл, и будет всегда помнить. Антонина довольна тем, что Еремей мужиком держится - просто любо посмотреть - за такого перед "невестой" не стыдно будет. И она с удовольствием принимается "её" описывать: "Я как к дому подошла, - сразу поняла: девка обиходная. Домишко - так на три окошка, но - палисадник новый, правда, не покрашенный, в ем - крыжовник; во дворе - гуси, девять голов. Кроликов держит. Чулан есть. Что в чулане - не могу сказать, там не была".
Умеет Кинёв, описывая дом, характеризовать человека. Любит писатель наделять своих героев не броским, но содержательным юморком, как бы, защищая их от посягательств ограниченных, бессовестных людей /тоже героев/, не имеющих творчески сообразительной струнки в характере. Не зря, наверное, так ревностно охраняют свои души - Еремей и Антонина даже от самих себя, живущих по совести.
- Дак, может, выпьешь, Ерёма? За сватовство.
- Нет. Не хочу зачинать. Ты вот лучше скажи - сказала ты ей, что ... я закуделивал тут лишку?
- Ну сказала. Так я думаю: ты не будешь с ней пить, Еремей. Надо беречь друг дружку...
" Как бы с чужой душой-то сильней не запить, - подумал Еремей, но промолчал".
Как же эти люди берегут свою душу! И в ней не только покаяние, но и то - как предстать потом перед Ним, перед Богом, когда время придёт...
Кинёв всегда традиционно, стандартен «по идее», и в том хорошем художественно-эстетическом смысле, что всегда стелется из - под его пера живое, тёплое, народное слово, порой, не обжитое ещё литературой. Какой-то непосредственно-детской провидческой действительности к обретению вечного, но обыкновенного земного бытия, соединяющего его героя с вечной памятью ушедшим: это великая православная традиция, которую оживил для нас писатель в образе Еремея и его Надёжи.
И не случайно писатель использует народно причитательную, сказовую тональность: "Не казнись, Еремеюшко. Я тебе за всё простила. Мне тут хорошо. Ты к Катерине-то присмотрись - она славная женщина. Я её помню" - послышалось откуда-то шепот в ответ на Еремеевы мысли". Новая "невеста" покорила Еремея человечностью. Она работала медсестрой в больнице, где последние дни свои провела Надя. Сколько добрых слов и заботы оказала она страдающей женщине; об этом можно только догадываться. "Как понял это сейчас Еремей, закричало в нём всё: в ноги ей, в ноги поклонись! Руки подпухшие, дрожащие, в морщинках и трещинках расцелуй! Какая она тебе невеста, какая хозяйка - домохозяйка - сестра она тебе, да и то не всё этим сказано - глаза, наверно Наде закрыла".
Когда мы начинаем думать о людях и чувствовать их, как братьев и сестер всечеловечески, то души наши поднимаются на религиозную высоту, обретая истинную веру, а вслед за ней - моление, где в ноги поклониться уже не зазорно святому по доброте человеку! " Ангел мой, ты, видишь ли, меня?" - впору воскликнуть Еремею вслед за Тютчевым, и вряд ли бы он разобрался в этих тонкостях. Но три слова он знал хорошо. Это: Вера, Надежда и Любовь...
Рассказ "Незабудки" - ключевой, определяющий настрой всей книги, почему я и остановился на нём так подробно.
Рассказ "Букет земляники" - гимн отношению человека, к природе, разумеется, в самом простом и непосредственном смысле. Это видно из первого абзаца рассказа: "Мама любит Марту, как человека". Коза Марта, как большинство из породы таких "человеков", не сказать, что писаная красавица. " У Марты большая голова с понятливыми тускло-зелёными глазами и выгнутыми коричневыми ресницами". Но она, несомненно, любима, любима... до бесконечности.
- Милушка моя, кормилица, сейчас я тебе хлебца вынесу - говорит мать Алёши, главного героя рассказа, мальчика лет десяти. Он со своей матерью - пастухи деревенского стада, где существуют свои, вполне справедливые правила: " На пастбище выказывать ласку своей козе нехорошо: что хозяева других коз подумают, коли увидят", пастух, должен любить всех животных стада, по крайней мере, всех уважать.
Заботиться обо всех, следить за всеми. Работа пастуха была очень ответственна и в любой деревне её никогда не доверяли разгильдяям или чужакам. Алёша с матерью были самыми подходящими людьми в этом деле. Переполненные самыми добрыми отношениями к природе и животным. И к своему деревенскому укладу жизни - они носили в себе богатейший мир обыкновенных, простых истин, присущий тогда всему человеческому миру со всеми горестями недавней войны, со всеми радостями Победы, чувствуя, осознавая эту благость: тишину, солнце... обилие ягод, грибов, цветов, запахов, такого обнадеживающего Белого света!..
Мать просит Алешу сходить за водой на речку. "До неё дойти-то всего ничего: обогнуть палисадник с малиной да с цветами бессмертниками /! -Г.М/, свернуть в проулок, переходящий в лужайку на берегу".
"Вода по - вечернему зеркально отсвечивает. Она очень светлая, прозрачная, и потому тёмный вечер над ней делается ещё темней". У себя в бане он нашел плачущую соседскую девочку:
- За мной собака бежала. Овчарка. Лаяла...
- Никакой собаки тут нет. И вообще они маленьких не трогают. ..
- Дак то маленьких".
Потом девочка пообещала Алёше «немножко мёду», когда его им дадут в колхозе: " Только ты за, меня приставай, если на меня большие нападут или собаки". Назавтра же они с мамой у них в семье завтракают, как пастухи. Всё это веками существовало в деревнях. Поочерёдно каждая семья кормила пастухов. Кинёв из тех писателей, которые умеют сказать многое двумя-тремя штрихами, но ещё больше умолчать - оставить в подтексте. "Видно, какие широченные лопатки у Натальи. Сама она статью, как мужик, а вот дети её что паренёчки, что Маруся - усколицие, тонкие, как хворост".
"Не знаю. Не грешна. Все от одного отца... от Фёдора... не идут они у меня ...в толщину, -говоривши Наталья соседкам. И картовки им... не жалею, и корову... надсажаюсь держу. А всё равно... только вверх идут, как дым".
«Кормят они, Прибытковы, хорошо: жареная картошка, солёные грузди, молоко, сметана... Но от Маруси стыдно - понравилась девочка и "своё над ней покровительство", Маруся его и выручает: "- Сегодня солнышко целый день будет. Пасти-то хорошо, - говорит Маруся и уходит обратно к своему Стёпке". Меньшему брату. Да, мы все прекрасно помним, что среди этих людей можно было прожить полжизни и не с кем не поссориться! Ну что, допустим, предъявлять к такому вот, например, отношению к труду:
"Мать всегда радуется, когда трава подходящая находится, радуется набухшему вымени каждой коровы". Дело в том, что Кинёв никогда не идеализирует своих героев: он пишет о том, что они всегда всего лишь честны, прежде всего, к своим обязанностям, верны в своих чувствах к людям, к природе и во всех проявлениях жизни. Нравственная сторона жизни у послевоенного поколения была высокой, выработанная ещё до войны...и ранее. В таких райских послевоенных местечках, в каковых живут наши герои, за исключением потерь мужиков, ещё не дошли повальная беспризорщина, воровство, детские колонии, базарные крики и слёзы баб...
Рассказ "Букет земляники" имеет второй план, кроме гимна природе, солнышку, тишине... Это - воспитание поступком. Как делают взрослые, так должны делать дети. Так всегда было на Руси. И, если это пропадало, или давало хотя бы какой-то перекос, то неизменно сворачивалась всякая нравственность, традиции. Появлялось вначале обычное непослушание, потом - вплоть до преступлений со всеми тяжкими последствиями.
Воспитание поступком - в сущности, единственно правильное воспитание.
Наши простые отцы и матери это прекрасно осознавали. Вопрос этот в наше послехолодновоенное время /возможно, началась уже четвертая холодная и не только - Мировая.../ стоит очень остро, острее, чем тогда.
И проза Николая Кинёва и особенно этот рассказ "Букет земляники" очень актуален на сегодняшний день, как одно из проявлений национального духа, появившегося вовремя, хотя не вовремя талантливые книги, никогда не появляются. Простые истины в устах героев писателя, только с виду простые:
"Мать говорит о смерти так же просветлённо, как и о дне хорошем, о восходе солнечном, как о птицах, о песнях. Мрачнеет она только, когда вспоминает, что отец погиб на чужбине". Ведь: "Хорошо жить и умирать там, где родился". Говорит она.
Вот и Алеша вслед за матерью имеет уже свою философию: "А воздух утренний - такой росистый, такой бесконечный, будто не ты им дышишь, а он те всё прихватывает, прихватывает, растворяет в себе, рассеивает, и тебе от этого так легко, словно нет у тебя веса, ни ног, ни-рук - ничего, только зрение одно и душа одна. Кажется, что ты вот этим воздухом, этой невидимой бесконечностью был вечно, жил всегда, но как память о другом, чужом тебе мире осталось бывшее когда-то: коровы, вица в руке, мешок за спиной...
Что же это? Прикосновение к бесконечности? То лёгкое, радостное исчезновение, о котором без страха говорит мать, растворение в вечно сущем?».
Родная атмосфера взаимопонимания, генная субстанция / тут слово воспитание как-то уже не подходит/ на фоне такого природного великолепия! ...Да, о таком "воспитании" теперь только мечтать, а в коллективном аспекте, наверное, оно вообще недоступно... Но что, собственно, произошло? Пастух и пастушка. Мать и сын. Пастбище, деревья, ягоды, грибы, цветы, солнце в небе... что ещё?.. Никакой писательской идеализации, может быть, чуть-чуть мечты и фантазии, реалистичной - и только. Всё предельно зависимо от самой жизни. Но как же нам снова далеко до этого благотворно- воспитательного «пастушества»! Ведь если мы опять до этого никогда не испытаем, или хотя бы не приблизимся к этому, нас ожидает от слабости нашего духа настоящая катастрофа, которая всё приближается и приближается сводками с «фронта» необъявленной войны...
А здесь такая благодать... "Трава в березняке тонка, но густа, обволакивает ноги, и земляника в ней крупная, влажно-красная. Каждая ягодка свисает со стебелька огромной заревой каплей, и удивительно, как он выдерживает ее: гнется, тонюсенький, обтянутый нежным темно-малиновым шелком кожицы - гнется, но выдерживает...». «Принеси в избу, оставь банку, отпотевшую от них, открой - земляничный аромат пронижет всё в доме. И душа становится мягче, и кровь чище, и жизнь - в счастье». Именно с этого и надо начинать выращивать душу! И она не замедлит появиться, вырасти, отблагодарить.
- Ох, темнеченьки! - удивляется мама. А сколько - насобирал-то!
- Вот букетик тебе.
- Ой - мать берёт ягоды - и как смотрит на Алёшу! Будто вот и одарил он её за всё, что она дала ему, что сделала для него вот и отдарил..." Поистине - "отдарил", а не просто, допустим, отдал. Мы начинаем забывать эту простейшую истину. Подарки берём, как должное. Нисколько не радуемся. Просто дежурно улыбаемся и говорим спасибо или ещё раз спасибо. Когда мать узнает, что второй букет Марусе Прибытковой, то говорит: "Прибытковы - люди простые, негордые. Сколько они помогали!" Когда убили на войне отца Алёши, в правлении колхоза решили многосемейным соседям Прибытковым отрезать с их Алёшиного огорода "лишку". Наталья Прибыткова бегала в сельсовет и заступалась за них, и не только это: "...когда на тракторе своё пашут, то уж и наш проулочек захватят, помогут."
Наше время это все перечеркнуло - давай бутылку! Две! Три! Триста рублей! Бедный - не бедный, пенсионер - не пенсионер. Давай - и всё!..
Николай Кинёв - актуальнейший писатель: я уже об этом говорил. И он актуален так же, как российский писатель И. Тургенев и его "Бежин луг", как актуальны всегда лучшие писатели России, писавшие о детстве в благороднейшей атмосфере православной нравственности! Аксаков, Толстой, Астафьев, Распутин, Белов... Они написали намного больше И, наверное, лучше, но Кинёв один из редких писателей, которые пишут мало, но готовы всегда ответить за любое своё художественное слово. Кинёв - великолепный стилист, прекрасный психолог, редкостный "подводник"- подтекстовик. Его диалог поистине, как в драме, не перенасыщен диалектизмами - всё в меру, но выпуклый на характеры, скорый на действительные события ежесекундный, еще горячий диалог! Кинёв немногословный писатель /как hи странно/. Я уже говорил об этом, но вот еще пример:
" В клубе серебрился "фокстротик". / Рассказ " Пролётка"/. Тут тебе и клуб - маленький, деревянный с открытыми дверями, какие обычно бывают в деревнях, где только и мог поместиться «фокстротик». А «серебрился» - деревенские девушки носили тогда штапель, развевающееся по любому поводу. Ситцы светлых тонов. Парни - клетчатые рубашки.
Танец, который "Пролётка" неизменно исполняла, когда приезжал! самодеятельные артисты, видимо, был с каким-то ритуалом цыганского обряда связанный со смертью табора. Исполняла танец "Пролётка' всегда после концерта самодеятельных артистов, без вызова её на сцену. Исполняла грубо, и, прямо скажем, не эстетично. И вот, когда "Пролётка" уже уехала из деревни, один пьяный мужик спохватился по окончанию очередного концерта:
"- Рано! Ишо Пролётка ногами не отбуткала! Я никому не хлопал - ей похлопал бы". Истину сказал, это значит, что даже такое не эстетичное, зачастую, просто, грязное, вороватое племя вызывало сочувствие у русского человека. И даже, когда сын Пролётки Мишка убегает из деревни, чтобы искать табор, которого нет, а заодно и воровать, убегает с одним из деревенских парней, который в своё время убегает от Мишки, другой деревенский парень говорит на это: "- Ты пошто от Мишки сбежал?
- Я тя, ядрена мать, на поскотину-с собой не взял бы! К матери убежишь коли чо! ".
Да и правильно, что убежал. Помогла крестьянская привязанность к дому, к молоку, к земле... Воздействовал генный ещё православный страх перед родителями! Я ничего плохого в этом поступке не вижу. И пусть его кто-то на поскотину не возьмёт - беда не большая. Могло быть гораздо хуже. Русский другого характера любит распылять себя, пустить свою жизнь на ветер...
...И этим пользуются все нации мира, кому не лень, что мы, собственно, и имеем на сегодняшний день. Я думаю, писатель всё это держит в подтексте, да и гораздо большее - ему ведь обо всех и обо всём надо думать. А пока перейдем к другому рассказу "Жаркие дрова, берёзовые".
«Всё началось с раннего утреннего света луны. И было любо Дарье Ивановне, пенсионерке ходить по золотым половицам дома в четыре утра, не включая света. Вроде как по небесам шагала - думала, предчувствуя какое-то радостное событие. Намедни привезли дрова берёзовье, метровник /уже радость!/ и надо было их пилить, колоть, складывать - звать людей, выходит, на «помочь».
Ещё в глубокую старину русские люди на «помочь» ходили, как на праздник. Ибо всякая семья в какое-то время обязательно в ней нуждается. Есть возможность людям сойтись поближе, показать себя с лучшей стороны, побалагурить... отвести душу и дело нужное, необходимое сделать! Вот и проснулась Дарья Ивановна от предчувствия праздника.
В рассказе " Жаркие дрова берёзовые" - это главный лейтмотив: атмосфера "помочи". Есть, как не быть, и другие аспекты.
Два основных героя рассказа - это Рабочком, председатель рабочкома Данило Афанасьевич и Аркадий Оглоблин. Последний: "Судьба снабдила Аркашку душой, которую никак для собственного удобства не приспособишь. Работает он вальщиком при совхозном стройцехе. Вкалывает его бригада ударно". Аркашку среди ночи разбуди, скажи: "Подсоби", - он встанет и пойдёт, не ворча, не торгуясь.
Первый: " И к соседям Данила Афонасьевич относился с той же привязанностью, что и к родным местам. Когда с войны-то пришел да увидел в целости-сохранности Андрея Степановича, Дарью Ивановну, Михаила Овсянникова и Васеню, Матрёну Волкову, Татьяну Семёнову - не поверил даже, что воочию их видит и слышит, словно с того света дали ему небывалую возможность вернуться. Сколько смертей он повидал, сколько разрушенных сел; сколько вжившихся в него людей потерял, что не верил своему возвращению". Первый поработал после демобилизации трактористом, потом избрали рабочкомом. Так в деревне и звали Рабочком, иногда и - в глаза. На своем месте, стало быть, был человек.
Трудовое, традиционное, радостное мероприятие, как всегда у нас бывает, началось с противостояния. Жена Оглоблина Анна идёт тайно от мужа жаловаться на него Рабочкому прямо к нему на дом и прямо с порога пугает милицией, прокурором, а потом "всяко" извиняется, но вины, разумеется, не чувствует.
Всегда у нас находятся горластые, настырные молодые /сравнительно/ особы, знающие права, желающие найти управу на каких-то отсталых от жизни. Якобы, шабашников - пьяниц и, потакающего им, начальства. С другой стороны, пожилые люди, как Матрёна Волкова, где у самой вечор была "помочь", симулируют недоразумение, недогадливость по отношению к тем же добрым традициям. "Пойду хоть водки мужикам куплю"- говорит она, зная, что Анна Оглоблина резко будет против. Но было и незаметное противостояние самой природы: "Да будьте вы прокляты, дрова! Будьте вы прокляты!" - кричала душа, и руки-ноги мелко дрожали у Михаила от непроходящей виновности перед Васеной". Васена, жена Михаила совсем ещё недавно погибла под возом привезенных на тракторной тележке дров к её дому. Вышла с радостью встретить... и стала жертвой неизвестно1 чего? Всё было сделано правильно, ничего не предвещало трагедии, но свершилось...
Михаил Овсянников, муж Васены впоследствии размышляет: "Природа, говорят, слепая. Мы её, слепую-то, увечим и обкрадываем, пилим, режем, иссушаем, отравой поим-кормим, словно целью задались сжить её со свету"... " Кто больше всех напакостил, чувствует вину за собой - тот увернётся: зрячий ведь. Невинный же - тот ненароком под месть попадёт."
ЭТО несколько новое понимание "мести" природы. У Астафьева, помнится, в "Царь-рыбе" тот, кто был виноват перед природой, тот под "месть" её и попал. Философия Кинёва в лице Михаила Овсянникова, выходит, даже объективней, поскольку именно будущим, невинным поколениям воздастся за наши грехи.
А пока... люди зовут Михаила на "помочь", зная, что рано или поздно придётся ему заниматься свежепривезенными дровами, пусть лучше на людях это попробует...
И осуществилось к трудовое веселье в тот день! Ведь люди все равно ничего кроме печек и дров не придумали, дома тоже деревянные - куда девать и атмосферу "помочи!
Но... «Белое зимнее солнце запросачивалось сквозь ватную небесную неразбериху - стала поблескивать дорога за околицей, и как-то гневно посинел лес вдали».
Так и отдадим последние слова лесу в рассказе "Жаркие дрова берёзовые".
Следующий рассказ "Девушка на уходящем катере", прямо скажем, банален и сюжетом, и содержанием имеет слишком простую трактовку. Красивая, "как сказка" незнакомая девушка уплывает на катере в неизвестность, оставляя желание любить и верить в любовь, а до этого... До этого была обыкновеннейшая история. В молодой, недосороколетней ещё, однодетной и не очень счастливой семьи муж решает уехать в дом - отдыха, подлечить печень, а заодно и пофлиртовать, поскольку никогда в жизни ещё не флиртовал в свои тридцать семь лет. И сразу нашлась очень красивая Зина, сама, так пристала, что и флиртовать не надо было. "Интересный мужчина" оказался Анатолий Ильич с точки зрения Зины, а точка зрения Лизы, её подруги намного оказалась сложней: "Лиза открыла глаза, и, не мигая смотрела на Анатолия Ильича - как на дамскую сумочку; досконально изучала всего, с ног до головы...".
Это после того как у Анатолия с Зиной всё было. И то ли этот осуждающий взгляд, то ли жалость к Зининому больному где-то мужу, то ли ещё что-то... но у Анатолия Ильича возникает мысль уехать. Фёдор, с которым они поселились вдвоём в одной комнате, восхищался Лизой: " - А Лиза-то, - восхищённо сказал Фёдор,- со мной... в любовь играть не стала. Уважаю! Я таких женщин уважаю! Мне, честное слово, самому легче, когда я от неё отказ услышал. Как от повинности избавился. "... "Мы, говорит, женщины, во всём верх взяли, а это не правильно. Понял ты?" Анатолий Ильич пока не понял. Это пока записному часто отдыхающему донжуану, Федору открылось... А потому, что «все под бомбой ходим», значит надо как можно чище быть. Может Бог и отведёт - бомбу - то...
Этой философии семидесятых годов прошлого столетия сегодня не хватает. Мы упорно думаем, нас каждодневно убеждают в этом, что никакой бомбы над нами не висит! Она будет падать, куда угодно, только не на нас! А за других людей мы не должны думать. Но и Анатолий Ильич сделал своё открытие, опять же, не без Фёдора. Фёдор спросил: любит ли его жена. Он ответил:
- По-моему, не любит.
- Плохо к тебе относится?
- Хорошо...
Чего тебе еще надо? Лучше уж пусть не любит, чем разлюбит. Когда баба разлюбит - она ненавидит, не может уже хорошо относиться. А хорошо относится - это не хуже, чем любит".
И понял Анатолий Ильич, когда через день встретился с женой, что даже небольшая разлука /с изменой или без / может обострить и вернуть почти забытое чувство.
"Она погладила его по руке, и стыдная и нежная оторопь прошла по его сердцу. В это длительное мгновение он любил её. Мгновение было всеохватно-пронзительным и Анатолий Ильич стоял не шелохнувшись пораженный счастьем и горем, от того что мгновение уходит.
- Я с тобой поеду, - сказала жена...
«Конечно, из банальной ситуации не может возникнуть что-то великое, но истинное вполне, что и доказывает нам писатель лишний раз, подводя нас к простейшим отношениям простых людей, возвышая и облагораживая действительную жизнь "...тот мир, где жили мы с тобою". И стоит, стоит нам поучиться у того мира, у того времени в понимании любви.
Рассказ «Своих проведать» с подзаголовком «реквием» весь построен на памяти умерших. На тех молениях: по отцу, матери, сестре... что прозвучало ещё в первом рассказе " Незабудки". И относится теперь уже в полной мере к исповедальной и молитвенной прозе писателя, где присутствуют два разнохарактерных начала, две разных изнутри сущности молений, которые нормально, внешне относятся к одному православному ритуалу, но один подход к нему - истинный, другой - лицемерный, как испокон веку было у людей всегда. Да и время ещё было не очень православное, когда молодой партийный поп мог и на дискотеке оказаться и сначала в партию вступить, а потом идти в православие, чтобы через это партии служить. Но вернёмся к самим истокам, к довоенному времени.
Шел очередной государственный заём, на который обязательно требовалось подписаться -иначе обвинят в агитации против займа, что грозило тюрьмой. «На этом займе и погиб Иван Иванович, отец Андрея». Андрей герой рассказа, от лица которого писатель ведёт повествование.
Вот люди, которые вели подписку на заём: "...депутат сельского совета Степан Фомич, низенький, плотный человек с монашеским отрешенным лицом". Это верный «монах», но не той религии. Сашка Петров, комсомольский вожак, избач, «который то и дело прибегал за помощью к Ивану Ивановичу, лучшему столяру в округе»... «Сашкины глаза глядели весело и, как живчики, бегали по избе; он был рад новому для себя поручению». Именно на него у Ивана Ивановича и пролилось всё негодование на подписку:
- Ты шкет недоделанный?! Ты, изморозь летняя?! Сам-то подписался?
С подпиской у них, у собак, всё было нормально. И утром, чуть свет, они подогнали к дому воронок и за агитацию против государственного займа и увезли Ивана Ивановича навечно. Ведь что ждать от этого из района: «У него было казённое лицо - как административная нашивка, как ярлык, как документ: неподкупное, невозмутимое, уравновешенное». «Уравновешенное» потому, что человек со своей совестью давно договорился: нет её, совести, и - прекрасно! Где-то в Воркуте, в вечных холодах и нашел свой конец Иван Иванович. Не зря Андрей проезжая возле "тюрьмы" по улице Свобода своего городка, почувствовал себя заключённым: «Над каменной стеной щерится шипами колючая проволока, а за ней возвышается четырёх этажное серое здание, решетки окон вцепились пальцы заключённых, и лихорадочные глаза неотрывно смотрят на дорогу, на машину, на него, на шофёра». И думает Андрей, что на севере отцу было еще хуже: «А думаешь, легче по-другому, когда за бараком снежный вой и мгла морозная, когда ни одного вольного лица перед глазами не промелькнёт! Когда и чужим счастьем не подышать...».
Какое точное понимание российской трагедии, ведь такое объёмное разностороннее понимание трагедии - уже моление, пусть даже ещё и без веры. Но это у героя - ещё без веры.
Андрею, сыну Ивана Ивановича, шофёру дали путёвку на рейс до Красного Ключа, родины Андрея и он сразу вспомнил отца: «Эх, тятя, как бы я тебя легко и мягко довёз сейчас до Ключа! - Думал Андрей, и представил отца рядом». Дорога шла по Сибирского тракту, Екатерининскому ещё! Заключённых всех поколений гоняли по нему. Звон кандалов, говорят, был слышен далеко. Пешком, не в кандалах, но в наручниках прошло множество арестованного народа здешней местности до ближайшей тюрьмы, когда «воронков» не хватало. Рядом с трактом «стоит редкой красоты многокилометровый сосновый бор. Как же, на каком же святом прахе людском такие чистые боры вырастают?». Отец умер в лагере «от чахотки» как указал начальник лагеря, к которому обращалась мать Андрея, сразу же за этой вестью умерла младшая сестрёнка Надя, потом умерла и мать. Их могилы навестить и решил по пути Андрей.
Белая берёзовая роща, стоявшая недалеко от бывшей церкви, ныне оглашаемой руганью, матом, рёвом тракторов и машин /рядом механический парк/ тоже, можно сказать, стоит на святом же прахе людском. Всё и всех едет проведать Андрей, так же, как и родные могилки. Но Андрею не повезло с женой Галиной-Галькой. Проявив свой деловой, как всегда, норов, она буквально окучивает могилку матери, вытоптав ее до этого, каблуками туфель. Стонет душа Андрея, глядя на это действо. Но слышит он откуда-то слова матери: «Меня в земной жизни больше обижали сынок. Я простила. А Галька твоя - ребёнок. У неё душа ещё маленькая. Ты хочешь ребёнка обидеть?» Простить, видимо, придётся ещё не окрепшим, но уже разрешенным православным миром, и подобных детёнышей: «У церковной ограды выхаживались девки в джинсах, прикуривали у парней с дамскими сумками через плечо, из которых, однако, торчали бутылки, - выхаживались, кривились:
«-Подумайте! Шалавы, старые песочницы - в джинсах нельзя! Пришли молодого попа охмурять, красивого стройного парня. Или хотя бы посмотреть на него. И Галька от них не отстала - уставилась на попа чуть ли не глаза в глаза».
Но мне хотелось бы немножко вернуться назад, чтоб не пропустить в этом рассказе одну драматическую сцену, выданную писателем обнаженно и скорбно и даже, можно сказать, молитвенно, хотя и «молитва» -то была произнесена партийной фельдшерицей.
Когда Вера, мать Андрея, маленького ещё Андрея, героя рассказа, вызвала к больной Наденьке Клавдию Степановну, то фельдшерица сразу, с порога заорала на Веру:
- «Ты что парня погубить хочешь? /маленький Андрей играл под порогом. - Г.М./ Не знаешь - дифтерит ходит?» ... «Простота эта деревенская, будь она проклята!»... «Мать стояла как школьница, провинившаяся, поэтому готовая сделать всё, чтобы не только оправдаться, но и доверие заслужить». Уже на выходе фельдшерица посмотрела и увидела / "сиротский смысл семейных фотографий". Н. Рубцов/ и сказала по-монашески как-то скорбно:
«-Господи, прости им! Они не ведают что творят!» /речь о власти/.
- Я не прощу, громко сказала Вера и встала прямо - торжественно, как перед судом. - Я их сама Богу покажу, если он не доглядел. Я их приведу к нему.
- За вами разве доглядишь, - сказала фельдшерица брезгливо. /Она была из Иркутска, из-за мужа прижилась здесь. И не одну правду отстояли вместе с мужем в деревне Г.М./. Живёте как собаки. Самоеды... Жрёте друг друга, а Бог виноват. Вам ещё "усь" не сказали, а вы уже гавкаете. Стеной надо, стеной друг за друга, а вы частоколом живёте - любую хворостину выдерни, переломи, спали... Мне в иной дом у вас заходить стыдно, иуды!
- Я-то что, я-то, что... я не продавала никого".
Вера, конечно, никого не продавала. В другом доме фельдшерица такой разговор не завела бы. Здесь она просто выговорилась. А деревенские «самоеды» всегда были. Сейчас они напоминают перестроечный электорат... Кстати, девки-то! Девки-то уже перед церковью в неприличном виде не появляются. Там, где-то занимаются чем угодно...
Но не перед церковью...
* * *
Кинёв Николай Георгиевич родился 23 мая, 1942 году в селе Ключи Суксунского района Пермской области. После окончания средней школы учился на филологическом факультете Пермского государственного университета имени А.М. Горького, который окончил в 1964 году. Писать начал в раннем детстве, печатался с 14 лет.
Основные книжные издания:
«Слети к нам тихий вечер»: Рассказы - Пермь, Книжное издательство, 1983 год. «Белая роща»: Рассказы и повести. - Пермь, Книжное издательство, 1988 год. «Вот тот мир, где жили мы с тобою» Рассказы, Пермь, Книжное издательство, 2002 год.
Умер писатель в 2011 году 23 июня.