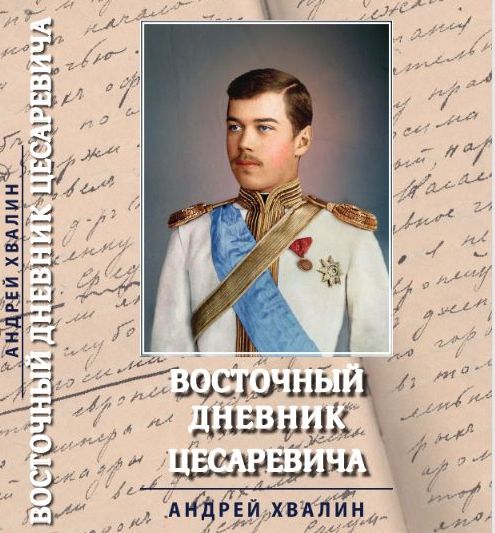С 1972 года Лысенко начал печататься в приморских газетах, а уже в 1974-м стихи молодого поэта были опубликованы в журнале "Москва". Поэтический голос Лысенко креп в поисках "своей" темы. "Капитал" забирал его все глубже. Он все прочнее и увереннее становился на почву "рабочей" поэзии, в которой ему, надо признать, удалось сказать новое слово, ибо все, что делал Лысенко - если он только этому верил искренне - он делал всерьез, на пределе духовных возможностей. В нем странно сочетались Сергей Есенин и Ярослав Смеляков. В стихотворении "Родине" он так декларирует свое жизненное кредо:
И мне доподлинно дано
с металлом, втершимся под кожу:
что я - поэт,
что - лирик, но
серпа и молота не брошу.
Лысенко, не имевший нужного кругозора да и просто образования, обладал какой-то отвагой и в то же время детской доверчивостью. Он как бы сам ставил над собой жизненный и поэтический эксперимент: можно ли, в самом деле, в тихую эпоху брежневского застоя быть не официальным, а действительно искренним "рабочим поэтом". Силы на этот жестокий эксперимент у него нашлись. Во всяком случае, их хватило надолго. Не знаю, понимал ли он, что знаки внимания, которые посыпались на него сразу после первых публикаций, были рассчитаны на грубое использование его личности. Думаю, что чем дальше - тем больше и больше - понимал.
Он мучительно искал внутреннюю свободу, искал свою "нишу" в жизни и в поэзии. Он действительно ценил в себе "рабочего поэта". А то, что для других она была лишь конъюнктурой, то, что другие пытались пользоваться его душой, искренностью, - он старался забыть, не думать об этом. Какое-то время ему это удавалось.
Тон, который он искал и находил, отдавал необычайной серьезностью внутренних требований и высотой самооценки. Отринув ребячливость бесшабашной юности, он пытался быть взрослым, - и свою взрослость видел в сакрализации труда и психологии рабочего человека. Судьба его ярко выражала одну из идейных доминант эпохи. Он всерьез поверил в лозунг о диктатуре пролетариата, а поверив, искренне хотел стать его глашатаем:
Спецовку примеряют не спеша.
И равнодушней жесткой упаковки
приемлет повзрослевшая душа
в сравненье с робой прочие обновки.
Будучи рабочим, Лысенко создал такие стихи о труде, которые, может быть, не совсем привычно, но зато правильно будет назвать проникновенно лирическими, в каком-то смысле даже интимными. В этих стихах ему удалось необычно ярко и по-новому передать чувство личной ответственности за строящийся социализм. Абстрактные понятия "пятилетка", "завод" и пр. он пытается "очеловечить", индивидуализировать - через свою личность. Со всей доверчивостью неофита, открывшего для себя новую веру, Лысенко бросает себя в плавильню "социалистических ценностей", целиком и без размышлений отдает себя делу "рабочего класса":
Чтобы не ради тех деньжат,
что учтены в тарифной сетке,
я лично чувствовал, как сжат
гигантский мускул, пятилетки.
Или вот еще:
Я шагаю в свой цех
и шаги пятилетки
на обычные метры шагами делю.
Этим же пафосом проникнуто стихотворение "Мои награды", в котором автор, "самый рядовой рабочий", признается:
как приморец,
как дальзаводчанин,
я уже три ордена ношу.
Но откуда такая решительная и безоглядная самоотдача? В том-то и дело, что смеляковское в нем произрастало... из есенинского! И труд, и рабочий класс, и воспевание пятилеток - все это имеет для него, действительно тонкого, порывисто-нежного лирика, один смысл - Родина.
И действительно, стихотворения, посвященные Родине, - в числе лучших, созданных поэтом за его недолгую жизнь. У Лысенко есть своя "малая" Родина - это Владивосток, собственно говоря, и породивший его как поэта (родился Лысенко в Оренбургской области, в 1942 году):
И у меня есть город,
весною, рано-рано,
распахнутый, как ворот,
на горле океана.
Лысенко сам понимал, что самое святое слово в его поэтическом ряду - слово Родина. А потому не торопился выказать свою любовь к ней, боялся сфальшивить хотя бы на одной ноте. Любовь - это слишком интимно. Ему казалось, что он еще не готов говорить о любви. Надо было ждать ее, как чуда:
Может, завтра
в предзакатном свете,
разглядев,
почувствую и я,
что душа заполнена всем этим,
словно форма точного литья.
И уже не молния прозренья,
а любви прочувствованный свет,
озарив нутро стихотворенья,
подчеркнет подробности примет.
В каждом новом стихотворении Лысенко стремился быть максималистом, ему хочется дойти "до самой сути". Далеко не все ему удавалось. Но то, что удавалось, отличается несомненным талантом. В его стихотворениях много щедрых строк. "Исповедальный" стиль Лысенко был, подкреплен тягой к яркому образному мышлению. Поэтический мир его, может быть, оттого и насыщен образами, что он чрезвычайно конкретен. Поэт очень ценит деталь, ее правдивость. Малая деталь позволяет ему быть предельно откровенным и в то же время не впадать в абстрактную патетику. Не случайно в одном стихотворении Лысенко заявил, имея в виду свое военное детство: "Я помню такие детали, которых не помнит никто" ("На возраст не делайте скидки..."). Его взгляд цепок и наблюдателен.
То раздастся площадь кругозора,
то сожмется прямо на глазах -
до травы у ветхого забора,
до шуршанья в вызревших овсах.
("То раздастся площадь кругозора...")
Еще одна замечательная черта поэтического характера Лысенко - стремление к афористичности. "Не все, что к нам врывается без стука, нас покидая, хлопает дверьми". Или яркое: "Мы все бывали помоложе. Постарше будем мы не все". И все это тоже роднит его с Есениным.
Бесконечно жаль, что его поэтической дороге было суждено прерваться столь рано. Раздираемый противоречием между крестьянской есенинской исповедальностью и лиризмом, с одной стороны, и смеляковским настроем на воспевание труда пролетария - с другой, он так и не смог определиться, выйти из заколдованного круга. Свой лиризм он отдал социалистическому официозу совершенно искренно, но трагично. Это была "свежая кровь" в старом организме, оживить который средствами поэзии, даже талантливой, было уже невозможно. Когда он понял это, было уже поздно "перестраиваться", или не хватило душевных сил. Так его поэтическая судьба оказалась ярким поучительным явлением эпохи позднего социализма. Уж лучше бы он прочитал Библию, а не "Капитал". С его характером - устоял бы на ногах. Но в то время Библию в тюремной библиотеке (он, конечно, не знал, что слово библиотека происходит от слова Библия, что Библия в этом смысле - единственная книга; остальные, в том числе и "Капитал" - всего лишь книжки) увидеть было невозможно. Напротив, за распространение Библии можно было попасть в тюрьму, как попал туда прекрасный православный писатель Николай Блохин, который по благословению митрополита Питирима закупал Библию и привозил эту Книгу в Россию.
Вывод простой: жизненная и поэтическая драма свершились по простой, банальной причине: не хватило кругозора, полета мысли. В поэзии Лысенко упрямо пробивал свой путь, оставаясь самоучкой и даже настаивая на этом. А жаль! Талант у него был необыкновенный! Талант чистой и искренней души.
Владимир Иванович Мельник, доктор филологических наук