(...) Когда сегодня склоняют цоевские «Перемены», называя их чуть ли не гимном Перестройки, не понимают главного: песня эта глубоко метафизична, и речь в ней, конечно, идет не столько о внешних, сколько о внутренних переменах.
Понятно раздражение Цоя, уставшего объяснять очередным идиотам:
«я подразумевал под переменами освобождение сознания от всяческих догм, от стереотипа маленького, никчемного, равнодушного человека, постоянно посматривающего «наверх». Перемен в сознании я ждал, а не конкретных там законов, указов, обращений, пленумов, съездов».
Понятно, что ключевые строчки здесь не «мы ждем перемен!» даже, а скорее вот эти:
Сигареты в руках, чай на столе, эта схема проста
И больше нет ничего, всё находиться в нас…
– Все – в нас: простейшая из схем, сакральный круг бытия, в котором и происходит все, что имеет смысл, и по отношению к которому все внешнее – бессмысленный тлен, «папино кино».
И заключение – «и вдруг нам становится страшно что-то менять», – как предупреждение: Будь осторожен! Ибо есть между тобой и бытием это вот вдруг, в одно из которых всё может мгновенно пе-ре-ме-ни-ться, и – под твоими ногами разверзнется бездна, или… в твое сердце – войдет любовь…
Правда и то, что призыв этот был, скорее, криком отчаяния, потому что (и это отчетливо становилось ясно) – готовых не находилось. Почему и в мотивах, где «и каждый кричит – я готов» (и еще кое-какой пионерии того же времени в том же духе) ощущалась какая-то фальшь, и они не слишком заходили: Цой здесь явно выдавал желаемое за действительное, желая зажечь сырые дровишки, но этот магический нажим не срабатывал.
Когда в 89-м, на самом «взлете карьеры» Цой приехал в Питер сыграв во Дворце молодежи новую программу (Будь осторожен, следи за собой… Между землей и небом война), встретили его довольно холодно. Кажется, мы вообще не вкурили – о чем это он? Питерские снобы, мы снисходительно наблюдали за его взлетом: да это ж наш Витя, вон он ходил между нами, а теперь, смотри ж ты, – звезда!
В то время он еще звал к революции духа. Не «коммунисты-антикоммунисты», «либералы-патриоты», «западники-славянофилы», но – ты и мир, свобода и страх – один на один.
Революции, обращенной лично к тебе, подросшему ребенку, воспитанному жизнью за шкафом, и, наконец, увидевшему свой полдень – возьми, это – твое…
И все же снова нет, то было давным-давно, два, три года назад, теперь же ребенок подрос, созрев для экзистенциального выбора:
Хочешь ли ты изменить этот мир,
Сможешь ли ты принять как есть,
Встать и выйти из ряда вон,
Сесть на электрический стул или трон?
В 90-м бессмысленность этих призывов и этих вопросов была понятна без слов. Подниматься было некому: революция, если она и творилась «в нас», там же же и завершалась, тонула, за неимением внятной цели. Всякое что тебе нужно, выбирай – растворялись в чем-то аморфном и вязком.
Не в переменах, конечно, было дело, а в потере смысла («что мне эта квинтэссенция праха?»): стена старого тоталитаризма, в которую дружно все упирались рухнула, и – растерянные «партизаны полной луны» разбрелись по лесу, мутить свои личные гешефты, да пошли по грибы…



















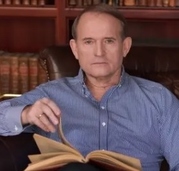


2. Кто ждёт перемен?
1.
«я подразумевал под переменами освобождение сознания от всяческих догм, от стереотипа маленького, никчемного, равнодушного человека, постоянно посматривающего «наверх». Перемен в сознании я ждал, а не конкретных там законов, указов, обращений, пленумов, съездов».///
Именно перемен в сознании!
Прочь Родина - все на запад. Всем своим умом, всею крепостию своею - на запад. Там свобода. Там никто не посматривает "наверх", там нет пленумов, съездов, указов... У автора перемены наступили окончательно и безповоротно.