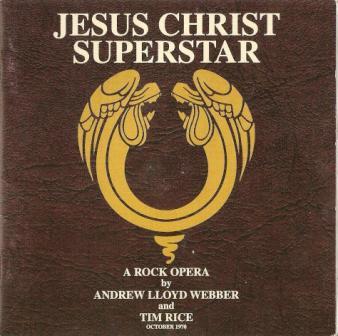ВОСХОЖДЕНИЕ.
Скорбию обдержим бысть, венценосче Николае,
зря ослепление народа твоего,
отрекшегося от Царя Небесного, такожде и земнаго
(канон Царственных страстотерцев)
Семья Царственных страстотерпцев – образ, символ мученического пути Святой Руси в 20 веке. Этот путь на Русскую Голгофу в марте 1917 года начался из города Могилева, который 100 лет назад стал одним из центров трагических событий, до сих пор болью отзывающихся в сердцах людей.
Могилев — последнее место царского служения Николая Александровича Романова и в этом смысле последняя столица Российской Империи. Во время Первой мировой войны здесь находилась Ставка Верховного главнокомандующего армией и флотом Российской Империи, сюда приезжали послы и министры, здесь принимались важнейшие военные и политические решения.
В разгар войны, когда готовилось решающее наступление Российской армии и Государь находился Могилевской Ставке, в Петербурге началась Февральская революция, которую при участии западных спецслужб подготовили оппозиционно настроенные к Императору придворные круги, буржуазия, думские политики и финансируемые Западом профессиональные революционеры.
Император выезжает из Могилева в Петербург для устранения беспорядков. Но в пути оказывается, что Государя предали те, на кого он больше всех надеялся и кто еще недавно его чествовал как своего Царя и Помазанника Божия. В нарушение Присяги, клятвы на Кресте и Евангелии, помрачившиеся и прельстившиеся генералы высшего командного состава вольно или невольно стали участниками антигосударственного заговора. Они, пойдя на поводу у революционеров, убедили своего императора, что только сменой государственной власти можно прекратить мятеж, сохранить армию в боеспособности и довести войну до победы. Как писал об этом свт. Иоанн Шанхайский: “Расчетливая злоба сделала свое дело: она отдалила Россию от своего Царя, и в страшную минуту в Пскове он остался один… Страшная оставленность Царя… Но не он оставляет Россию, Россия оставляет его, любящего Россию больше своей жизни. Видя это, и в надежде, что его самоумаление успокоит и смирит разбушевавшиеся страсти народные, Государь отрекается от престола…”
Ради России Император жертвует троном и вместе со всей своей семьей становится на путь мученичества.
“Нет той жертвы, которую Я не принёс бы во имя действительного блага и для спасения родимой матушки-России”, — написал в телеграмме Император Николай Александрович.
После Пскова Государь возвращается в Могилев и несколько дней пребывает здесь в огромных душевных страданиях, прощаясь со своей армией, а в ее лице со всей былой Россией. Император пишет последнее обращение к армии, в котором только просит солдат хранить дисциплину и довести войну до победы. В Могилеве он впервые побывал на Литургии, где вместо Самодержца поминали так называемое “благоверное Временное Правительство”, состоявшее из членов тайных обществ. Здесь в Могилеве “верные” генералы сняли царские вензеля и дали новую присягу Временному Правительству, которое вскоре развалило Россию. Здесь Помазанника Божия арестовали…
Могло ли тогда оставаться благоволение Божие к России, где стали нормой стремление к чуждым западным ценностям, теплохладность к вере, нарушение клятвы на Кресте и Евангелии, хуление и предательство Помазанника Божия?! В день отстранения от власти Государь в своем дневнике четко охарактеризовал произошедшее: “Кругом измена и трусость, и обман”…
Прельстившаяся Россия стала стремительно падать в бездну. И вскоре правителями на Руси вместо кроткого царя-христианина стали кровавые тираны, устроившие невиданные гонения на Церковь.
Приведем некоторые воспоминания о трагедии, произошедшей 100 лет назад в Могилеве после того, как отстраненного от престола Государя привезли обратно в Ставку.
Генерал Дубенский Д.Н. писал об одном случае:
«На одной какой-то станции уже к вечеру наш «Свитский» поезд остановился: я вышел из вагона и направился к вокзалу… В самом вокзале, в зале первого класса, совершенно пустом, ко мне подошел какой-то человек, лет за 40, по виду, одежде и разговору торговый человек или состоятельный крестьянин. Он поклонился, затем очень тихо спросил меня:
«Простите, позвольте узнать, неужели это Государя провезли?»
Я ответил, что да, это проследовал Его Величество в Могилев в Ставку.
«Да ведь у нас здесь читали, что его отрешила Дума и теперь сама хочет управлять».
Я дал ему разъяснение, но он остался неудовлетворенным и с грустью сказал:
«Как же это так. Не спросясь народа, сразу Царя Русского Помазанника Божия и отменить и заменить новым». И человек отошел от меня.
Я задумался над этими простыми, но ясными словами. Точно нарочно этот русский случайный человек передал мне в первый же день, когда у нас уже не было Государя Императора Николая II, голос толпы, голос того русского народа, который сотни лет так свято чтил имя Православного Царя».
Из письма генерала Гурко В.И., написанного Государю через четыре дня после его отречения:
“ …Движимый желанием процветания и счастья России, Вы предпочли принять на себя все последствия и всю тяжесть случившегося, нежели обречь страну всем ужасам длительной междоусобной борьбы или, что было бы еще страшнее, – оставить ее беззащитной перед торжествующим вражеским оружием… Я не нахожу слов, чтобы выразить свое преклонение перед величием совершенной Вами жертвы…”
Генерал Кондзеровский П.К.: «Прошли несколько дней пребывания Государя в Ставке.
Дни эти были тяжелые, ибо в Ставке проявились элементы, которые скоро стали очень живо реагировать на все, что творилось в Петрограде. Из нижних чинов, как я узнал, тон взяли, и притом самый революционный, электротехники, т.е. солдатская интеллигенция. Они влияли на все остальные команды, и их слушались… Уже через два или три дня после возвращения Государя в Ставку по приказу из Петрограда электротехниками было решено устроить революционный праздник, и вот во все части и команды дано было распоряжение выступить, разукрасившись красными бантами…»
«Приехали агитаторы, появились газеты, радостно сообщавшие о «безкровных днях» переворота, наконец, ясный переход генерала Алексеева на сторону Временного правительства, все это сделало то, что и войска Царской Ставки начали организовывать митинги и собрания».
И далее: «… Генерал Цабель не знал, надо ли быть в погонах с вензелями Государя, или их надо сиять, как этого хотел генерал Алексеев… Он стал снимать вензеля с пальто, но дело не ладилось и генерал обратился к стоявшему здесь же старому преображенцу, курьеру Михайлову:
«Михайлов, помоги мне, сними с погон вензеля».
«Никак нет, не могу, увольте. Никогда это делать не согласен, не дай Бог и смотреть», и он, потупившись, отошел.
Генерал Цабель замолчал, нахмурился и стал сам ковырять что-то на погонах. Но совершенно неожиданно вышло на самом митинге. Оказалось, все солдаты собственного Его Величества полка были в вензелях, кроме явившихся без вензелей командира полка генерала Цабеля и его адъютанта, поручика барона Нольде» (ген. Дубенский Д.Н.).
Последняя Литургия в Могилеве, на которой был Царь:
«Через день или два после приезда Государя в Ставку, в Могилев к Его Величеству прибыла из Киева Императрица-Мать Мария Феодоровна … Ее Величество почти весь день проводила с Государем, и в ближайшее воскресенье они оба были в нашей церкви. Это была обедня, которую трудно забыть…» (ген.Кондзеровский П.К.).
«В храме стояла удивительная тишина… Все понимали, что в церковь прибыл в последний раз Государь, еще два дня тому назад Самодержец величайшей Российской Империи и Верховный Главнокомандующий великой Русской армии, с Матерью Своей Императрицей, приехавшей проститься с Сыном, бывшим Русским Православным Царем.”
(ген.Дубенский Д.Н.)
«…В первый раз на ектениях не поминали Их Величеств… Когда на великом входе диакон вместо «Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго…», стал возглашать что-то странное и такое всем чуждое о Временном правительстве — стало невыносимо, у всех слезы из глаз, а стоявший рядом со мной Б. М. Петрово-Соловово рыдал навзрыд»
(ген.Кондзеровский П.К.).
8 марта Государь прощался со всеми чинами штаба.
«В зале были выстроены все чины штаба … Все были при холодном оружии.
…При входе Его Величества в зал я скомандовал:”Смирно, Господа офицеры!”…
Его Величество, войдя и поклонившись всем, стал посередине и сказал всем теплые прощальные слова… Я чувствовал, как какой-то комок подступает к горлу, что могу сейчас разрыдаться; глаза застилал туман.
Государь стал всех обходить и прощаться со всеми, протягивая каждому руку и глядя каждому в глаза своим чудным, добрым взглядом. Подошла моя очередь; Государь крепко пожал мне руку, в последний раз я видел его чудные глаза. В зале все громче и громче слышались рыдания многих, которые не в силах были сдержаться. Слезы были буквально на глазах у всех.
Вдруг один офицер конвоец грохнулся во весь рост, ему стало дурно; затем другой, Георгиевского батальона. Нервы всех были напряжены до крайности.
Государь не смог окончить обхода всех и поспешно повернул к выходу, но, проходя мимо нижних чинов, Его Величество попрощался с ними; они тоже почти все плакали, особенно старики. Его Величество вышел, сел в автомобиль и уехал на вокзал в свой поезд. Это прощание произвело на всех неизгладимое впечатление» (ген.Кондзеровский П.К.).
Прощание Императора с солдатами символично описал один из старейших и уважаемых государственных людей Н.А. Павлов, который служил трем последним русским Царям:
«Все было невероятное, все хмурое, тоскливое, завороженное, безвольное.
Но во всем этом грустном и мрачном, сама собою, для истории начинает ярко светить вырастающая личность Государя Николая II…
Он прощается с офицерами, из которых иные падают в обморок… напряжение минуты достигает апогея …
Вот солдаты Его приветствуют. Их много; люди затаили дыханье; лязгает оружие, армия еще вся цела; все связано традициями, дисциплиной, всей историей. Силища — страшная… Солдаты — народ. Каких тут нет губерний…
К ним, к народу Его последние слова…
«Прощайте, братцы»,— будят напряженную тишину трагические слова Царя…
«Братцы» — говорят у нас в народе не часто. Слово старинное, любимое, ласковое и призывное. Ошибись Государь теперь и скажи Он — не «прощайте», а «спасите, братцы», и быть может, этого слова было бы достаточно… чтобы повернуть ход истории… Могла быть бойня, кровь… но все могли бы кинуться Его спасти, и кто знает, не стал ли бы наш Государь — кумиром армии, кумиром народа, став под его защиту, опять, по-старому, кровно сроднившись с ним… Кто знает? — гадать не нужно…
Государь сказал великие незабвенные слова, сильнее всякого Манифеста… «Прощайте» — чудное слово нашего чудного языка. Он прощал. А «братцы» — прозвучало лаской к народу, который Он так братски любил…В этих словах сказался не пафос Императорства, а смиренное народное Самодержавие, православное, неизбывное, всепрощающее и свое, земляческое…
Эти заветные слова внесутся в историю, и когда-нибудь и стариками, и молодыми поколениями нации любовно поймутся… и заставят дрогнуть сердца. «Право на бесчестие» 1917 года будет же когда-нибудь со всех нас снято, и новые, подобные былым, подвиги, обелят и похоронят ненавистные события этих долгих лет и того страшного дня…
Государь остался один перед народом. Так простился Государь с народом…
Так угодно было Богу…
Государь не изменил ни России, ни воинской чести. Он не призвал ни к защите Себя, ни к бунту.., а повелел народу и армии продолжать до победы войну.
Он остался один… Мы не знаем дум Царя. Знаем лишь Его решения. Четки, величественны, просты слова и мысли мученика. Не Он отрекается, а от Него и тысячелетней Росси отрекся народ. С нее, с России снимается венчавшая главу корона, опустились ее крест и знамя, сменяясь терновым венцом» .
Об аресте Государя вспоминает генерал Дубенский Д.Н.:
«После переговоров Бубликова с генералом Алексеевым оказалось, что Государь должен считать себя арестованным и лишенным уже свободы. Это распоряжение произвело крайне тяжелое впечатление на всех и вызвало большое волнение и негодование среди свиты и некоторых других лиц Ставки.
«Как, почему, с какой стати, какие основания, неужели Алексеев решится передать это заявление Его Величеству», – говорили многие. Оказалось, однако, что генерал Алексеев передал Государю: «Ваше Величество должны себя считать как бы арестованным». Я не был при этом разговоре, но слышал, что Государь ничего не ответил, побледнел и отвернулся от Алексеева.
Государь был очень далек от мысли, что Он, согласившийся добровольно оставить Престол, может быть арестован. В момент приезда депутатов Думы для его сопровождения Он даже сказал гофмаршалу князю Долгорукому: «Все-таки надо их пригласить к обеду». Князь Долгорукий немедленно передал Бубликову и его товарищам приглашение на обед к Государю, но те отказались. Князь Долгорукий был удивлен и смущен этим недопустимым грубым отказом и, дабы не волновать Государя, доложил Его Величеству так: «Их вагон не соединен переходом с нашим поездом и потому они не могут придти». Государь ничего не ответил.
Прошло еще минут 10–15. Мы все напряженно стояли у вагонов при полной тишине. Еще раз прошел, почти пробежал, генерал Алексеев в вагон Императрицы, пробыл там несколько минут и вышел оттуда. Вслед засим отворилась вагонная дверь и Государь стал спускаться по ступенькам на рельсы. Тут плотным кольцом окружили Его Величество провожавшие. Государь шел очень тихо и протягивал руку подходившим к нему лицам. Большинство со слезами целовали руки Царя. Я никогда не забуду глаз Государя; они были неподвижны, стали светлее, как-то расширены и тяжел бесконечно был их взгляд. До Государева поезда было шагов 20–30, и Его Величество сейчас же дошел до своего вагона. Тут к нему подошел адмирал Нилов и, схватив руку Государя, несколько раз ее поцеловал. Его Величество крепко обнял своего флаг-капитана и сказал: «Как жаль Константин Дмитриевич, что Вас не пускают в Царское со мною».
Затем Государь поднялся в свой вагон и подошел к окну, стараясь его протереть, так как оно было запотелое.
Императрица все это время стояла у окна своего вагона, крестила Его и платком утирала слезы. Многие из провожавших, великий князь Александр Михайлович, принц Ольденбургский, крестили Государя.
Наконец, поезд тронулся. В окне вагона виднелось бледное лицо Императора с его печальными глазами. Генерал Алексеев отдал честь Его Величеству.
Последний вагон Царского поезда был с думскими депутатами; когда он проходил мимо генерала Алексеева, то тот снял шапку и низко поклонился. Помню, этот поклон депутатам, которые увозили Царя «как бы арестованным», тяжело лег на сердце и окончательно пошатнул мое мнение об Алексееве.
Начали разъезжаться по квартирам, и мне ясно стало: в Пскове была смерть Государя Императора, а здесь в Могилеве похороны».
“Я глядел на собравшуюся кругом поезда, еще с утра, громадную толпу людей, сосредоточенно молчаливую, почтительную, в большинстве грустную, подавленную.
Я видел слезы у многих.
Я чувствовал, что они пришли проводить не низложенного врага-Монарха, а покидавшего их своего природного, чтимого Царя… Этот русский народ не понимал всего совершившегося; он думал иначе, чем его Думские представители и «русские» генералы. Он думал: «нет, так не должно было бы быть ни теперь, ни потом” (полковник Мордвинов А.А.).
Генерал Дубенский Д.Н.:
«9-го марта утром я взял Евангелие и стал читать. Мне бросился в глаза стих (Иоанн, гл. 7, ст. 24): «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Как подходят эти святые слова к нашим событиям, к тому, что совершилось с Царем, которого стали судить судом неправедным. Сколько напраслины, клеветы давно падало на Его голову и на всю Семью. Поразительно то безумие, которое охватило всех, и та злоба, проповедуемая ныне «свободным словом». Из газет, пришедших сюда в Ставку, бросается в глаза ежедневная пасквиль, широкой рекой полившегося на Царскую Семью, и отвратительно сознавать, что временное правительство не имеет даже внешнего такта запретить, по крайней мере, ругательства над ними – бывшими Царем и Царицей. Лакейство и свободное ныне холопство восторженно твердит в уличных листках и революционных газетах о выдуманных преступлениях Романовых. Нет ни мыслей, ни сознания достоинства, ни чести…».
Генерал Дубенский Д.Н. о второй Присяге:
«На второй день по отбытии Государя в Царское Село, т. е. должно быть 9-го марта, состоялось приведение к присяге Ставки Верховного Главнокомандующего. Утром, часов около десяти, на площади Могилева перед старой ратушей и зданием присутственных мест, где находилось, как я упоминал, управление генерал-квартирмейстерской части, и близ дома, где жил Государь, собрали войска, все офицерство и весь генералитет Ставки. Духовенство в зеленых военных ризах поместилось в центре шеренг солдат и групп офицеров. Поставлен аналой с Св. Крестом и Евангелием. Среди присягавших я заметил великих князей Бориса Владимировича, Александра Михайловича, генералов Алексеева, Кондзеровского, Борисова и многих других. Седой священник громко читал новосозданную присягу временному правительству взамен нашей старой, составленной Великим Петром, и вся площадь с солдатами, офицерами и даже великими князьями, поднявшие правые руки, повторяли новые во многом неясные слова присяги и затем целовали Св. Крест и Евангелие».
«Когда окончилась присяга, Великий Князь взял перо и расписался на лежавшем на аналое присяжном листе, расписался нервно, и когда делал свой обычный росчерк, то перо зацепило бумагу и разбрызгало чернила. Великий Князь взял пресс-бювар и стал нервно бить им по бумаге, в результате чего получились огромные клясы. Потом он передал перо Великому Князю Петру Николаевичу, и как только тот расписался, начал нервными ударами прикладывать к свежей подписи пресс-бювар, и так со всеми остальными, после чего весь присяжный лист приобрел печальный вид. Великий Князь отдал этот лист мне и простился со мной» ( Ген. Кондзеровский П.К.).
Генерал Дубенский Д.Н.:
«На вокзале находилась группа офицеров л. – гв Преображенского полка – полковник Ознобишин, капитан, кажется, Старицкий, которые прибыли от полка к Его Величеству, дабы заявить Государю, что полк не только глубоко предан Царю и скорбит об Его отречении, но и готов исполнить все, что ему укажут. Эти доблестные и прекрасные офицеры первого Петровского полка, к сожалению, прибыли в Могилев уже по отбытии Государя в Царское и не могли дать утешения Царю своими сердечными заявлениями о верности полка. Я с ними разговаривал и убедился из их слов, что Преображенцы охвачены не только грустью по поводу последних событий, но они готовы были на самые решительные меры, дабы помочь Государю. Преображенцы-солдаты так же твердо держали себя и охотно грузились в вагоны, когда первая гвардейская дивизия должна была идти в Петроград в конце февраля для прекращения беспорядков в столице. Потом, через несколько дней, распоряжение о посылке дивизии было отменено (командир л. – гв. Преображенского полка генерал Дрентельн говорил, что когда пришло распоряжение, отменяющее эту экспедицию в столицу, то нижние чины выражали сожаление. А. А. Дрентельн не сомневался в настроении людей и безусловной верности Государю. Генерал Дрентельн в самом начале революции ушел в отставку) ».
Следователь дела об убийстве Царской Семьи Соколов Н.А. писал: «Лишение Царя свободы было поистине вернейшим залогом смерти Его и Его семьи«…
После расстрела Государя, Святейший Патриарх Тихон благословил архипастырей и пастырей совершать о нем панихиды. 8 (21) июля 1918 года во время богослужения в Казанском соборе в Москве Патриарх сказал:
«На днях свершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович… Мы должны, повинуясь учению слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе».
Сам Патриарх Тихон совершил отпевание Царя как действующего Императора.
«Я питаю твердую уверенность, что судьба России, моя собственная судьба и судьба моей семьи находятся в руке Бога, поставившего меня на то место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я склоняюсь перед Его волей с сознанием того, что у меня никогда не было иной мысли, чем служить стране, которую Он мне вверил» (Император Николай II).
Русский Царь склонился перед Волей Божьей, и для спасения России отказался от борьбы за власть земную, отдав скипетр и корону во Власть Господу. Его уже не волновали ни “трусость и измена, и обман”, ни вся клевета и поругание. Его волновало только благо России.
Cвт. Николай Сербский в 1932г. говорил:
“Русские в наши дни повторили Косовскую битву. Если бы царь Николай прилепился к царствию земному, царству эгоистических мотивов и мелочных расчетов, он бы, по всей вероятности, и сегодня сидел на своем троне в Петербурге. Но он прилепился к Царствию Небесному, к Царству небесных жертв и евангельской морали, и из-за этого лишился жизни сам, и чада его, и миллионы собратьев его. Еще один Лазарь и еще одно Косово!”
По преданию сербскому Царю Лазарю перед битвой с турками на Косовом поле явился ангел и сказал: «Ты можешь выбрать себе земное царство и оно тебе будет дано. Но тогда ты лишишь себя Царства Небесного. Ты должен выбрать либо одно, либо другое». Лазарь выбрал Царство Небесное. Вместе со своим народом он шел на битву, зная, что в ней погибнет. Жизнь свою положил Царь Лазарь за родной народ. В этой земной битве турки победили. Однако эта битва спасла сербский народ от окончательного исчезновения в историческом и духовном плане. Потому что всегда спасает только вера и верность Богу.
Именно вера и верность Богу всех новомучеников Церкви Русской, Царственных мучеников и особое попечение Божией Матери сохранили нам в 20 веке Русскую землю и Православие на ней.
Их же молитвами, Боже, укрепи в вере, дай покаяние и помилуй нас!
17 июля 2017 года
(из материалов выставки «Царская Семья. Восхождение»)
И. В. Сидорович