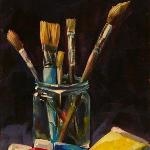3 июня 2023 года исполнилось бы 100 лет выдающемуся математику и мыслителю, одному из столпов русского национального движения новейшего времени, академику Игорю Ростиславовичу Шафаревичу. Как истинный ученый, он подходил к любому изучаемому вопросу с математической точностью и тщательностью, поэтому его вклад в осмысление исторических процессов ХХ столетия занимает особое место и требует особого внимания. Если для определенной части академического мира его работы по сущности социализма и русофобии представлялись чем-то вроде вредного увлечения, помешавшего основной научной и преподавательской деятельности, а для либерального диссидентства его ориентация на почвенничество и традиционные русские ценности стали проявлением некоего консервативного ренегатства, то для самого И.Р. Шафаревича вся его деятельность являлась неразрывным путем, основанным на целостной системе взглядов. Недаром на пике своей академической карьеры он, оцененный всем миром специалист по теории чисел, заявлял, что религия стоит выше математики и еще в древности пифагорейцы ясно видели в этой науке «путь слияния с божеством через постижение гармонии мира, выраженной в гармонии чисел». В своих историософских работах И.Р. Шафаревич стремился дать оценку актуальным проблемам и вызовам, стоящим перед народом и государством, и, таким образом, актуальности его наследие не потеряло.
Тем печальнее… Потому что за свою твердую и смелую позицию выдающийся ученый оказался в определенной степени подвергнут остракизму как со стороны ученых МГУ и части научного сообщества за общественную позицию, так и «прогрессивной интеллигенции», разглядевшей в его теории «малого народа» лишь антисемитский пасквиль, и, в конце концов, уже нового российского государства.
19 февраля 2017 года на гражданскую панихиду по И.Р. Шафаревичу в здании Российской академии наук, с учетом масштаба его личности, пришло небольшое число людей: коллеги по научной деятельности, не побоявшиеся выразить свое уважение, почитатели из патриотической среды, родные и близкие. Не прозвучало слов об утрате на высшем уровне, не было потока новостных сюжетов по центральным телеканалам – все проходило без должного внимания. Так произошло и в этом году: столетний юбилей выдающегося ученого был отмечен лишь вечером памяти на единственной дискуссионной площадке – в культурно-просветительском центре «День» на территории одноименного книжного магазина.
Открывая встречу, публицист, главный редактор телеканала «День-ТВ», заместитель главного редактора газеты «Завтра» Андрей Фефелов отметил, что с начала работы «День-Центра» впервые в зале лектория не было свободных мест. Впрочем, живой интерес патриотической общественности едва ли может вызывать удивление, ведь И.Р. Шафаревич, по его оценке, является одной из ключевых фигур патриотического движения, стремился к осмыслению русского вопроса на высоком цивилизационном уровне, тем более в ту пору, когда данную тему было не принято поднимать публично. Хотя не И.Р. Шафаревич ввел в употребление термин «русофобия», но ему это понятие обязано популяризацией в первую очередь. Сегодня этот термин прочно вошел в информационное пространство и стал использоваться повсеместно на всех уровнях, вплоть до перспективы принятия федерального закона о русофобии, что А.А. Фефелов считает оправданным, поскольку данное явление широко распространено как внутри страны, так и за ее пределами. При этом выступающий задается вопросом: почему привнесенный Шафаревичем в массовое сознание термин, наконец, признан, но его фигура при этом остается в тени?
Историк и публицист, заместитель директора Института стран СНГ И.С. Шишкин вспомнил эссе Андрея Белого «Штемпелеванная культура», где выводилась формула борьбы «определенных сил» с неугодными идеями: сначала пытаться замалчивать; если не получилось, то замарать, а при неудаче возглавить. По его мнению, с идеями И.Р. Шафаревича проделывают эти манипуляции, и как раз начался третий этап: всякий кричит о русофобии и показательно «борется» с ней, но только применительно к зарубежному пространству, в то время как в книге И.Р. Шафаревича четко сформулировано, что русофобия – это идеология определенного слоя российского общества. Затем аудитории был представлен фрагмент интервью академика для «Народного радио», цикл которых записывал И.С. Шишкин.
«Основное положение идеологии малого народа заключается в том, что русская культура и русское национальное самосознание обладают неким пороком. <…> Из этого следует вывод с железной логикой, с которой может быть предложен взгляд на русское будущее: очевидно, что оно не может развиваться, основываясь на русской национальной традиции, потому что вся литература «малого народа» и доказывает, что эта национальная традиция превращала всю историю России в цепь жестоких кровавых катастроф. Значит, и будущее ничего иного не сулит», – сказал И.Р. Шафаревич в том интервью.
И.С. Шишкин также обращается к письму Ф.И. Тютчева, написанному в 60-е годы XIX века, где используется термин «русофобия». В нем поэт и чиновник обращает внимание на то, что до реформ Александра II русофобы сетовали на бесправие, отсутствие свободы печати и т. д., но по мере прихода долгожданных свобод их неприязнь к России только увеличивается. Отсюда делается вывод, что их цель вовсе не в разумной корректировке общественного устройства и разумном заимствовании чужого положительного опыта, а в радикальном разрыве с русской национальной традицией и со всей отечественной историей, вместо которых предлагается слепое перенимание западной модели. При этом академик отмечает, что адепты русофобии в разные периоды ставили в пример разный опыт Запада: Чаадаев – католицизм, либералы – права человека и демократическое общество, революционеры – марксизм и мировую революцию, постсоветские реформаторы – рыночную экономику. Большевизм он также охарактеризовал как явное проявление идей «малого народа», выразившихся в тотальном отрицании русской истории, заклейменной в его школьных воспоминаниях как «проклятое прошлое». Кроме того, большевики заменяли традиционное устройство России рожденной на Западе и для Запада идеологией марксизма, которая, по утверждению самого К. Маркса, не может победить в Европе, пока существует государство Россия. В 90-е годы повторение, но с новой моделью. И.Р. Шафаревич заключает, что в действительности идеологи «малого народа», насаждавшие западные концепции взамен русской традиции, сами не верили в озвученные идеи, а итогом их деятельности виделась трансформация России в средство осуществления неких целей западной цивилизации.
Подтверждая щепетильность академика во всем, И.С. Шишкин вспомнил, что при обращении к нему за комментарием по какому-либо вопросу, И.Р. Шафаревич обычно просил неделю на размышления, после чего мог спокойно ответить, что на данную тему ему сказать нечего. Это яркий и характерный для него пример, кардинально отличающий настоящего ученого от вездесущих «экспертов», готовых с поразительной самоуверенностью рассуждать по любому поводу на широкую аудиторию.
А.Н. Севастьянов, публицист, политический и общественный деятель, охарактеризовал И.Р. Шафаревича как человека высокой внутренней культуры, обладавшего свежим, молодым и реактивным умом, прекрасной памятью, насыщенной широкими знаниями, чем, вероятно, обязан непрерывной интеллектуальной работе. В свое время он стал самым молодым доктором математических наук, знал несколько языков и в любом аспекте сохранял научный взгляд – аналитический и скептический, а его суждения всегда опирались на стройную доказательную базу. В отличие от других деятелей русского движения, по оценке А.Н. Севастьянова, он никогда не предавался иллюзиям и мифам, и присутствие такой личности, как И.Р. Шафаревич, в русском лагере сразу качественно повышало его на другой уровень, в какой-то степени давая оправдание его существованию и в то же время к многому обязывая тех, кто остался. Из личного общения с И.Р. Шафаревичем ему запомнился пессимизм академика при оценке этнодемографического состояния Русского народа, который был первым по рождаемости в Европе начала ХХ века, и то, как он сокрушался об утрате интеллектуальной элиты дореволюционной России – о множестве блистательных родов, что пресеклись по естественной причине или сгинули после революции в Советской России или в эмиграции, обогащая другие культуры.
Также его когда-то удивил отказ выступить на 90-летии И.А. Солженицына, с сотрудничества с которым в сборнике «Из-под глыб» началась публицистическая деятельность И.Р. Шафаревича, объяснив, что не желает говорить о покойном плохо, но и положительного, с учетом его вклада в разрушение страны, тоже сказать не может. Воздержавшись, он выбрал путь чести.
При этом вышедшую в 1974 году работу «Социализм как явление мировой истории» А.Н. Севастьянов считает по сей день необходимой для прочтения, особенно тем патриотам, которые грезят социалистическими идеями. Книгу «Трехтысячелетняя загадка» он назвал самым фундаментальным трудом по еврейскому вопросу, который ему доводилось читать. При этом, вспоминая книгу «200 лет вместе» А.И. Солженицына, которую тот, по убеждению докладчика, писал с целью примирения русского и еврейского начала в своих детях, Александр Никитич находит двухтомник достаточно бедным на выводы и архаичную библиографию. Шафаревич же, как истинный ученый, не упустил ничего, не допускал лишнего, а его главная заслуга даже не в данных ответах, а в тех вопросах, которые он задает, заглядывая в сердцевину вещей.
Ценность книг И.Р. Шафаревича в том, что они обращены не только в прошлое, но и помогают понять актуальные мировые процессы, например: либеральный глобализм, трансгуманизм и т. д., поскольку автор раскрыл истоки этих явлений. Примечательно, что еще при СССР он заявил о том, что марксистская форма существования малого народа уже отработана и он будет искать новую.
Еще в 70-е годы прошлого века, задолго до поглотившей Запад ЛГБТ-повестки, ученый предрек поддержку сексуальных меньшинств, региональных национализмов и др. А в 1982 году говорил, что новый удар по стране будет сделан под антикоммунистическими лозунгами, которые будут перекликаться с лозунгами 20-х годов о проклятом прошлом и пороках Русского народа.
Из зала, где собралось большое количество представителей патриотического лагеря разных взглядов и возрастов, звучало множество вопросов и реплик, и ведущими не раз пресекались попытки полемики, что наглядно подтверждало актуальность и востребованность наследия академика И.Р. Шафаревича.
Филипп ЛЕБЕДЬ







.png)