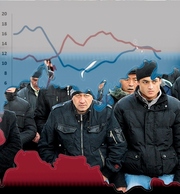Марина КУДИМОВА. Фото с сайта tgliamz.ru
В феврале исполнилось 239 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта, стихов пленительная сладость которого, по словам Пушкина, навсегда оплодотворила русскую словесность. В чем его тихое новаторство и как его наследие возможно воспринять сегодня? Об этом мы побеседовали с поэтом и литературоведом Мариной Кудимовой.
– Марина Владимировна, Борис Зайцев назвал Жуковского единственным кандидатом в святые от литературы. Насколько, по-вашему, справедливо это определение? Многое ли оно объясняет в Василии Андреевиче?
– Если точно, то Борис Константинович Зайцев считал, что Жуковский не был cвятым, но приближался к той грани, которая прямо дает право сказать о смерти или даже благословении на смерть. Конечно, Зайцев имел в виду «Светлану». Все эти игры со смертью и призывами к ней сегодня квалифицировали бы по-другому – как склонение к самоубийству или доведение до него. Поэтому я не могу сказать, что это меня сильно радует. Но если судить об эпохе, в которую жил Жуковский, то, конечно, это была «гробовая» эпоха, и весь романтизм развился из темы смерти. Эта тема смерти осталась одной из ключевых в русской литературе, без нее и без ее осмысления очень трудно представить себе кого-либо из крупных русских поэтов. Много ли эта тема объясняет в Василии Андреевиче-поэте? Как в поэте романтическом – много, как в христианине – не очень. Игры с запредельным опасны, и Серебряный век это доказал. Мне кажется, что поэты не должны так далеко заходить.
– Василий Андреевич – новатор, впервые начавший писать амфибрахием на русской почве, придумавший имя «Светлана», предвосхитивший Серебряный век. Вместе с тем от новатора никак не ожидаешь, что он будет писать о прелести уединения, о могильном покое. Может быть, для каждой эпохи существует своя новизна? Можно ли ожидать новатора, пишущего на эти темы, сейчас?
– Это неточно. Имя Светлана в балладе «Светлана и Мстислав» в 1802 году впервые придумал и употребил Александр Христофорович Востоков. А вот популяризировал это имя, сделал таким известным и побудил так называть очень многих девочек, конечно, Жуковский. Я не думаю, что это наивысшее его достижение, новаторство Жуковского совершенно в другом. Он предвосхитил русский язык Пушкина, истинного основателя русского литературного языка. Если сравнить язык Державина, самого популярного поэта того времени, и язык Жуковского – это две разные планеты. Конечно, у Жуковского очень много архаизмов, и, естественно, он еще питается из языка XVIII века. Но интенция, которую он задал русскому языку, – это невозможно переоценить.
Новаторство Жуковского еще и в переосмыслении роли эпитета. Он утвердил прилагательное как неотъемлемую часть фразового строения русской поэзии. Но мне кажется, что Жуковский, безусловно, работавший на стыке сентиментализма и романтизма, все-таки гораздо ближе к Ломоносову. Он осваивал размеры, которые привез из Германии и столь плодотворно утвердил в русской поэзии Михаил Васильевич Ломоносов. Что касается опять же бесконечного муссирования темы покоя и смерти, то не надо забывать, что Жуковский элегист. Вслед за Батюшковым он сделал элегию одним из значимых жанров русской поэзии. Второй, конечно, баллада. Его жанровые находки и бесконечные игры с европейской поэзией истинно новаторские.
– Жуковский считал себя учеником Карамзина. Какие уроки учителя ему пригодились? Вообще можно ли предположить, что русский романтизм был бы другой, с большим акцентом на индивидуальности и байронической волей к мятежу, не будь Василия Андреевича? Или в России такое невозможно?
– Жуковский преклонялся перед Карамзиным, считал его своим духовным и нравственным учителем и говорил об этом множество раз. К тому же не надо забывать, что Карамзину Жуковский обязан началом своей литературной работы: его дебют – публикация знаменитого «Сельского кладбища» – состоялся в «Вестнике Европы» в 1802 году с благословения и одобрения Николая Михайловича. Это была не оригинальная работа, а переложение баллады Томаса Грея. Тем не менее с ней Василий Андреевич вошел в литературу и сразу стал знаменит. Авторитет Карамзина для Жуковского был непререкаем. Достаточно вспомнить эпитафию Николаю Михайловичу, которого Жуковский оплакивал до конца своих дней. Очевидно, ему очень не хватало великого историографа и писателя: «О! как при нем все сердце разгоралось! // Как он для нас всю землю украшал! // В младенческой душе его, казалось, // Небесный ангел обитал». Насколько Пушкин был скептически настроен к Карамзину, при этом бесконечно его уважая, настолько в сознании незаконнорожденного Василия Андреевича Бунина (которого мы знаем по фамилии его отчима как Жуковского) Карамзин был его настоящим отцом.
– Известны слова Жуковского о том, что его ум – это огниво, которое зажигается от постороннего материала. На ум приходит Шекспир, у которого мы вряд ли найдем оригинальный сюжет. Такая восприимчивость к чужому – это свойство темперамента или чего-то еще?
– Эта цитата звучит так: «Мой ум как огниво, которым надобно ударить о камень, чтобы из него выскочила искра». Жуковский говорит о том, что это его авторское качество: «У меня все или чужое, или по поводу чужого, и все, однако, мое». Совершенно замечательные слова Жуковского многое объясняют в поэзии и вообще в литературе XIX века. Не будем забывать о том, что никаких канонов авторского права еще не было, понятия «плагиат» не было. Батюшков, пока был в здравом рассудке, очень иронично относился к Жуковскому, но Жуковский черпал из его поэзии полной ложкой. Но не надо забывать, что и Пушкин черпал из его источника: «Гений чистой красоты» – заимствование у Жуковского. Это было совершенно обычным делом во времена Пушкина. Точно так же, как и во времена Шекспира. Никто на это не обращал особенного внимания. Более того, Лермонтов подхватил эстафету, и «Белеет парус одинокой» взято у Бестужева-Марлинского. В этом смысле Жуковский открыл общую тетрадь русской поэзии. И до сих пор все берут там, где только могут.
А вот что касается «камня», на мой взгляд, из этого «удара» вышел Осип Мандельштам, для которого, как известно, образ камня, метафора камня играли колоссальную роль.
– Жуковский был наставником будущего царя Александра II…
– Да, из этого августейшего мальчика вышел царь-освободитель. Безусловно, он впитал от Жуковского это «великое чувство свободы», как писал Некрасов. Хотя отец цесаревича Николай Павлович не всегда был в восторге от методов романтического обучения наследника престола. Кстати, если вернуться чуть назад, то колоссальное влияние поэзии Жуковского на себе испытал тот же Николай Алексеевич Некрасов. Особенно это касается трехдольников. Известен традиционный прием для студентов-филологов, когда на лекции по русской литературе XIX столетия преподаватели – в нашем вузе замечательный Станислав Борисович Прокудин – предлагали угадать автора. «Были и лето и осень дождливы; // Были потоплены пажити, нивы; // Хлеб на полях не созрел и пропал; // Сделался голод, народ умирал». Все кричали: «Некрасов! Некрасов!» Но, конечно, это переложение Роберта Саути, которое сделал Василий Андреевич Жуковский, – «Суд Божий над епископом».
– Судя по тому, что сказано на тему его влияния, можно заключить, что российская история – дело не только царей, но и поэтов. Так ли это?
– Конечно, это так. Завет Державина «И истину царям с улыбкой говорить» исполнил Жуковский. Его улыбка, благодушие, кротость в высшей степени свойственны Жуковскому, это буквально его портрет. Русскую историю делала не только поэзия, ее наравне с властителями и судиями творила и продолжает творить русская классическая литература, сомнений в этом нет.
– Правильно ли мы понимаем, что русская школа как институт во времена Жуковского еще не устоялась?
– Это так. «Народная» школа Ушинского еще только маячила впереди. Жуковский поначалу учил своих племянниц, пробуждал в них «чувства добрые» и считал этот опыт успешным. Но не классно-урочную, а индивидуальную систему преподавания позволить себе могли только очень состоятельные люди. Жуковский ведь занимался не только с наследником, но и с другими детьми императорской фамилии. Однако великую княгиню Александру Федоровну русскому языку научить так и не смог. Она оправдывала учителя тем, что он «человек слишком поэтичный, чтобы оказаться хорошим учителем». И все-таки о Жуковском-педагоге лучше судить по царствованию и правлению Александра II. Как по высшим достижениям мы судим о поэте, точно так же можно судить и об учителе. Судя по всему, учителем он был все же неплохим.
– А что вам известно о преподавании Жуковского в современной школе? Ваши подрастающие внуки как-то соприкасаются с этой темой?
– Им задают совершенно непонятные для них ни по языку, ни по содержанию баллады. Слава богу, у них есть я, мы читаем и разбираем с ними эти тексты. Но все, что выходит за рамки школьной программы, детьми воспринимается гораздо лучше, например «Лесной царь». Не надо забывать, что Жуковский как переводчик весьма нестандартен. Нестандартны мотивы, которые он использовал, будучи блистательным знатоком европейской литературы. «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? // Ездок запоздалый, с ним сын молодой» – это дети слушают, замерев. Завораживающий ритм, и к тому же это про страшное: мальчик пугается, какой-то лесной царь за ним гонится. Что касается баллад Жуковского, то их нужно преподносить соответственно – как сказки. Их поэтическая канва очень сложная.
– Повлиял ли Жуковский на русских символистов?
– Еще как повлиял! И Блок, и Бальмонт, и Мережковский очень много взяли у Жуковского в своем европеизме и склонности к мистическому, таинственному. «Невыразимое подвластно ль выраженью?» – сказано тем же Жуковским. Вот этому надо учить в школе: то, что не переводится на язык прозы, что нельзя пересказать другими словами, и становится поэзией. Современная школьная программа по литературе скользит по поверхности, не задевая душевные струны детей. А когда им понятно, о чем речь, то все в порядке. Понятно в том смысле, что они испытывают эмоцию. Я не думаю, что от баллад Жуковского все пяти- и шестиклассники содрогаются в том смысле, в каком содрогались гимназисты в 40-е годы XIX века. Эмоциональная жизнь эпохи гаджетов иная, и надо искать иные подходы.
– Видите ли вы в современной поэзии линию Жуковского? Если да, кого бы вы могли назвать его последователями?
– Все-таки сегодня преобладает синергетическая или, можно сказать, синтетическая поэзия. Весь XIX и весь XX век крупными поэтами, безусловно, впитан и переработан. Если говорить о продолжении линии Жуковского в романтическом ключе, то это Иван Жданов, отчасти Аркадий Драгомощенко. Но если бы мне предложили о ком-то написать в сопоставлении с Жуковским, то я взяла бы именно Ивана Жданова и попыталась осмыслить эту мистическую стиховую ткань с невероятно таинственным сюжетом. Хотя, конечно, как поэт начала XIX века Жуковский высказывался гораздо более прямо. Если сдвинуться чуть назад, мне кажется, что у Бориса Поплавского есть романтико-сентиментальная нота Жуковского. А вообще давайте не будем забывать, что у Жуковского был «победитель-ученик» – Александр Сергеевич Пушкин. И мы все живем по часам Пушкина.
Алексей ЧИПИГА, Борис КУТЕНКОВ