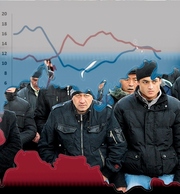Смерть — великая корректировщица масштабов. Лев Толстой сравнивал человека с дробью: «…В знаменателе — то, что он о себе думает, в числителе — то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь». Смерть убирает либо числитель, либо знаменатель и превращает ушедшего в простое число. Если числитель равен единице, начинаешь осознавать единственность. Если он трехзначен, забвение неминуемо. Эдуард Лимонов жил без знаменателя, свою единственность в молодости доказывая кулаками и эпатажем, в зрелости — войной, тюрьмой и особостью, отдельностью во всем. В первые минуты его посмертия уже грянул хор доказывателей, что подросток Савенко — этакая вариация Питера Пэна: «Все дети, кроме одного-единственного на свете ребенка, рано или поздно вырастают». Нет! Несмотря на единственность, подросток Савенко стал Эдуардом Лимоновым. И стал им только потому, что последовательно взрослел и менялся от книги к книге. Но в глазах старших поклонников оставался — и остался — Эдичкой, героем своей первой вещи. Представляю, как его раздражала эта несправедливость. Если что-то Лимонова беспокоило, то лишь забвение:
Те — умерли, а тех — не чтишь,
А эти провалились сквозь подкладку.
Единственное, чего он боялся, — «провалиться сквозь подкладку». «Это я — Эдичка» страховал его от забвения, но мешал эволюции славы. Лимонов всю жизнь преодолевал в себе Эдичку. Не знаю, читал ли он «Смерть героя» Олдингтона, роман о поколении, «которое горячо надеялось, боролось честно и страдало глубоко». Тему романа Лимонов, как говорили в школе, «раскрыл» — один из всего класса. Он был запредельно честен в том, что писал, а писал он всегда о себе. Таких честных в литературе наперечет, все так или иначе себя приукрашивают. Он глубоко страдал, потому что много думал и совершал поступки, часто смертоносные. Он горячо надеялся на всемирную славу — и добился ее.
Только Лимонову после шестидесятников удалось вписаться в мировой литературный контекст, но совершенно другой ценой — самостоятельно и без разрешения. Взявшись ниоткуда, никогда никем не поддерживаемый, всеми гонимый и отрицаемый, живший «дивно» и «неосторожно», говоривший через себя обо всех нас, Лимонов вцепился в буферный брус хвостового вагона, и уходящий поезд литературы мотал его и трепал во все стороны, но сбросить так и не смог. И, чем провинциальнее и самозамкнутее становилась русская литература, тем более самодостаточным и ни от чего не зависящим становился Лимонов. Поэтому только о нем француз Каррер написал бестселлер, номинировавшийся на Гонкуровскую премию, а итальянец Костанцо взялся за экранизацию этого бестселлера. Что-то в мире больших киноденег не сошлось, или герой снова не оправдал ожиданий продюсеров, но характерна сама идея. Костанцо, возвращаясь к началу разговора, кстати, снял картину «Одиночество простых чисел». Это лучшая эпитафия Лимонову.
А Эдичка? Что — Эдичка? Я читала репринт первого бедного издания 1979 года, сделанного на свой страх и риск «Руссикой» Александра Сумеркина, ночью, — а такие книги тогда и давались на одну ночь. Я ничего не знала о судьбе мальчика из Харькова, промышлявшего разбоем. С каждой страницей из меня выходила пена мифологии — советской и антисоветской. Думаю, что роман, написанный в дешевом отеле «Винслоу», заедаемый щами с кислой капустой, черпаемыми русской деревянной ложкой, многих предостерег от рокового шага прощания с одним мифом ради другого. С Родиной ради чужбины: «…Не за тем меня не могли купить там, в СССР, чтоб я продался по дешевке здесь». Левак-анархист Лимонов вернулся одним из первых, чтобы строить собственный миф. Я помню его на писательском сборище начала 90-х — в старом парижском пиджаке и черных джинсах. Было абсолютно понятно, что снова не впишется и не продастся. Я храню и первое постсоветское издание «Эдички», буквально выбитое покойным Сашей Шаталовым из лап кончающейся в корчах цензуры и напечатанное в типографии ЦК компартии Латвии.
«Эдичка» — важная и страшная книга, хотя остальные части тетралогии «У нас была великая эпоха» произвели на меня более сильное впечатление. Иосиф Бродский, по слухам, обронил об «Эдичке», что в контексте американской литературы исповедь Лимонова ничего нового не представляет. Может, на фоне Генри Миллера и Буковски это и так. Но в контексте состоявшейся эмиграции и мечты о ней, склонности к ней целых поколений еще как представляет! «Эдичка» трагичнее обоих названных, у которых он, понятное дело, взял все, что смог унести. Публиковать дебютную книгу отказались 36 американских издательств, причем некоторые дважды. В отместку нобелевскому лауреату Лимонов назвал его «великим американским поэтом», прекрасно понимая, насколько звание русского поэта выше и статуснее. Лимонова искусно ссорили с Бродским и противопоставляли ему. И тот, и другой спасли мировое значение русской литературы, как бы кто ни отбрыкивался от этого факта.
Но Лимонов — это все же не литература в институциональном смысле. Больше или меньше —теперь, когда он не сможет ответить холодно-яростной насмешкой, и поспорим. Он создал тип блогового письма, которым, по их представлениям, овладели все, изо дня в день описывающие каждое свое отправление. Они считали Лимонова клоуном, неприятным маргинальным стариком. А он, в отличие от них, был героем. Не последним, конечно, — ведь жизнь продолжается даже на эпидемической «удаленке». Но — героем. И оплакиваем мы сегодня смерть героя. Масштаб будет уточняться. Лимонов был главным мужчиной эпохи феминизации, как Джек Лондон или Хемингуэй, а ему всё тыкали эпизодом на нью-йоркском пустыре.
Постепенно мы научимся смотреть на него его же глазами:
И я этот юноша чудный,
И волны о голову бьют
И всякие дивные мысли
Они в эту голову льют.
Юноша бесконечно старше подростка — на первую любовь и первую смерть. Прощай, Эдичка!