 В
залах Академии художеств РФ открылась персональная выставка народного
художника России Дмитрия Белюкина «Время собирать камни...». Она
приурочена к 55-летию мастера. Всего представлено около 200 живописных
работ, многие из которых публика увидит впервые.
В
залах Академии художеств РФ открылась персональная выставка народного
художника России Дмитрия Белюкина «Время собирать камни...». Она
приурочена к 55-летию мастера. Всего представлено около 200 живописных
работ, многие из которых публика увидит впервые.
культура: В экспозиции нет некоторых Ваших «знаковых» произведений, в первую очередь масштабного полотна «Белая Россия. Исход». Почему?
Белюкин: Картина давно висит в Центральном музее Вооруженных сил
РФ. Я не стал выставлять ее, как и другие произведения
«белогвардейского цикла», поскольку они не входили в замысел концепции.
культура: Зато «Осколки» - наверное, смысловой центр
экспозиции? Мальчик-казачонок на фоне разоренной дворянской усадьбы
пытается собрать из фарфоровых осколков целую тарелку.
Белюкин: Возможно, родители героя принимали участие в разгроме
господского дома: во многих селах приезжие комиссары заставляли крестьян
это делать вместе с ними, чтобы «повязать» общим преступлением. В
данном случае воспроизведена панорама вокруг усадьбы Панаевых в деревне
Байнево на моем любимом Валдае. Одна местная бабушка давно рассказывала,
что окрестные крестьяне очень не хотели жечь эту усадьбу, что барыня
там была добрая, приветливая, и они с девочками часто бегали потом на
развалины и тихо плакали там.
культура: Можно трактовать иначе? Мальчик - сирота, у которого
Гражданская отняла родителей. Война давно отшумела, он уже не помнит
прежнего русского мира. Эта тарелка для него - образ чего-то утерянного и
красивого, как сказка былых времен.
Белюкин: Что ж, интересное прочтение. Главное, что он хочет
именно собрать, а не разбросать подальше эти осколки прошлого, то есть
восстановить связь времен.
культура: Разбитыми оказались тарелки уже не только царской, но и советской России. И склеить хотелось бы обе?
Белюкин: Да, безусловно. Цитату из Екклесиаста «время собирать
камни» я поставил в название выставки, конечно, в широком контексте. Вот
портрет последнего царя Николая Александровича с двумя сестрами за
спиной: его супругой Александрой Федоровной и великой княгиней
Елизаветой Федоровной, прославленными Церковью. Вглядитесь в кроткий лик
царя - может, хватит уже его мучить посмертно? А на этой картине -
затопленные корабли Черноморского флота, выполнившие свой последний
долг, перегородив вход в севастопольскую бухту англо-французской эскадре
в Крымскую войну. Все это русские камни, которые нам следует бережно
собрать, чтобы перестать быть Иванами, не помнящими родства.
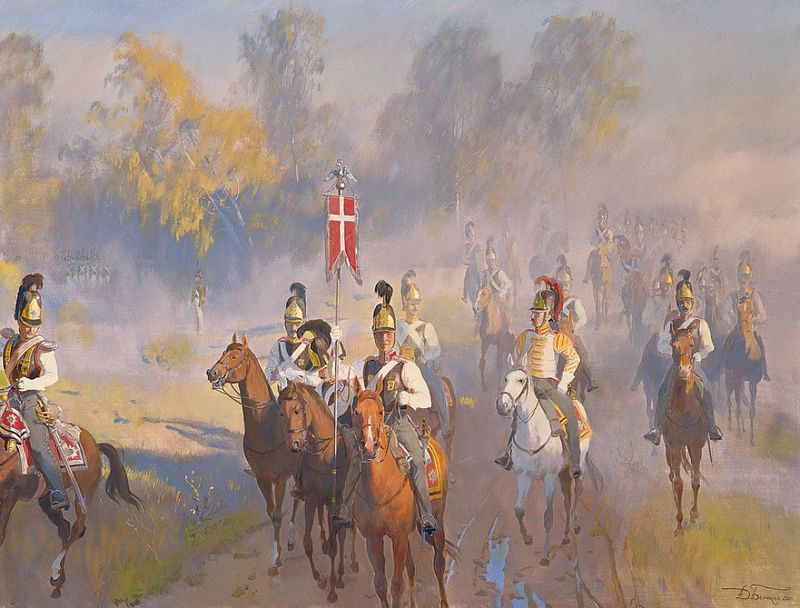 Я
благодарен Студии военных художников имени Грекова, заказывающей мне
исторические полотна. В этом сотрудничестве родилось много моих работ, в
частности «Александр Суворов», «Петр Великий», «Утро Бородинской
битвы», представленные на выставке.
Я
благодарен Студии военных художников имени Грекова, заказывающей мне
исторические полотна. В этом сотрудничестве родилось много моих работ, в
частности «Александр Суворов», «Петр Великий», «Утро Бородинской
битвы», представленные на выставке.
культура: Вас, наверное, не раз осуждающе называли «белогвардейским художником»?
Белюкин: Бывало, конечно. Когда та же «Белая Россия» была
вывешена в 1995-м на стене ЦМВС, то пришедшие туда вдруг в большом
количестве пожилые советские генералы высказали свое коллективное
возмущение - как, мол, это могло появиться здесь. Их просто трясло от
ненависти. Директор музея Александр Константинович Никонов тогда
претерпел за меня некоторые гонения, его спас Никита Сергеевич Михалков.
Скажу так: величать меня «белогвардейским художником» неверно. Мой дед, воевавший офицером в Германскую войну, попал в 1917-м в горнило революционных страстей и стал в итоге командиром Красной армии. Если бы все получилось по-другому, то я бы, допустим, родился где-нибудь в Париже или не родился бы вообще. Дед воевал в Сибири против Колчака. Однажды, правда, революционные солдатики его чуть не пустили в расход за «английский» пробор и офицерскую выправку. Но это детали. Отец добровольцем ушел на Великую Отечественную войну. Вся ближняя родня воевала за Советскую власть и советскую Родину. Так какой же я белогвардеец?
Спрашивается: почему художник не может быть чуть выше деления «белые - красные»? Мы ведь давно «проехали» ту войну, перемололи вражду миллионами судеб, историй семей. Сколько уже можно нас ссорить? Даже многие бывшие белые генералы, которых трудно заподозрить в симпатии к Советам, перечисляли деньги для Красной армии во время Второй мировой, благословляли подвиг советского народа в борьбе с фашизмом, помогали, чем могли...
Я поражен тем, что в столетнюю годовщину революции вновь удалось так подогреть давно, казалось бы, остывшие страсти. Не будем называть здесь провокационные фильмы и некоторые другие публичные акции, которые у всех на слуху. Ясно одно: это делается не от большой любви к России.
Я бы трактовал название выставки еще и так: перестаньте кидать камни в наше прошлое, судить-рядить об ошибках других людей в истории, а попробуйте собрать разбросанные камни и что-то хорошее из них выстроить. Восстановите гармонию в себе - и она начнет распространяться вовне.
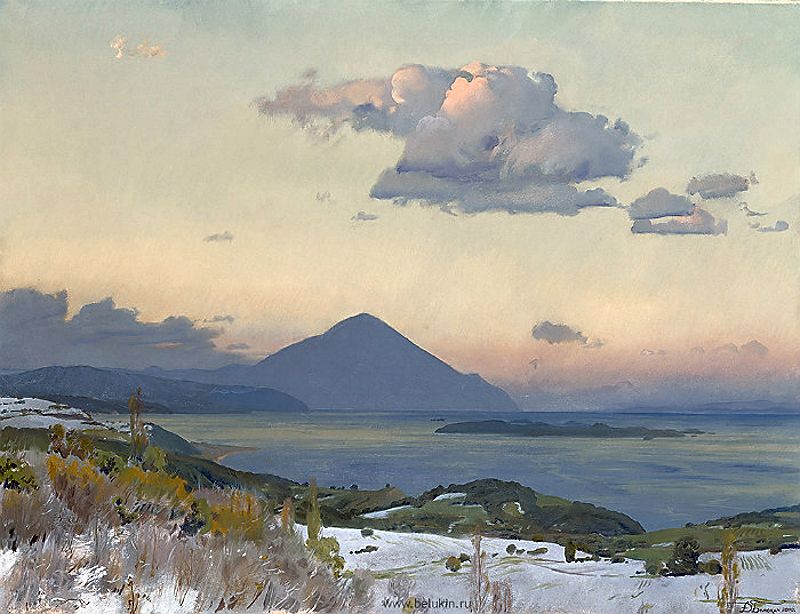
культура: А Ваши пейзажи - как они соотносятся с идеей экспозиции?
Белюкин: Это незримые «камни», фундамент нашей духовной Родины. С
одной стороны, любимые и исхоженные мною библейские новозаветные места
Иерусалима и Галилеи, с другой - благословенные виды Святой Горы Афон, а
с третьей - храмы, монастыри и просторы Святой Руси.
культура: Можно ли, передавая гармонию красками, бороться с хаосом?
Белюкин: Я и стараюсь это делать по мере отпущенных мне Творцом
способностей. К сохранению на холстах гармонии природы и души
человеческой отношусь серьезно - как к своему служению. Тем более что
служба эта приятна.
культура: Трудно ли сегодня жить художнику?
Белюкин: Нелегко. Выставочные залы у нас отобрали,
приватизировали. ЦДХ сейчас вообще уходит из рук творцов
изобразительного искусства. Сначала цены за выставление своих работ были
щадящие, потом - безумные, как теперь в Манеже или Новом Манеже. Любая
экспозиция трактуется как коммерческое предприятие. Но ведь далеко не
все позиционируют свои картины как товар! Многие, и я в том числе, хотят
просто показать людям лучшее, что сделали за какой-то промежуток
времени, значительную часть своих работ вообще не собираются продавать.
Но такие мотивы выпадают из сегодняшней коммерческой парадигмы: плати и
выставляйся. Нас отучают, сводя все к арт-бизнесу, мыслить широко,
по-русски: дерзать, затевать большие темы. Придуманы специальные
продажные каталоги, «покупательные индексы» художников.
 Мне
приятно, что на открытии выставки выступавшие коллеги отмечали, что я
стою «как скала против коммерции, отстаивая свое право рисовать не под
заказ, а то, что необходимо, что хочется сказать от души». Что будет с
картиной и с самим художником - вопрос другой. Нынешних меценатов
ориентируют на сиюминутную моду, они, в большинстве своем, перестали
ценить классическую живопись, как в свое время делал, например, Павел
Третьяков.
Мне
приятно, что на открытии выставки выступавшие коллеги отмечали, что я
стою «как скала против коммерции, отстаивая свое право рисовать не под
заказ, а то, что необходимо, что хочется сказать от души». Что будет с
картиной и с самим художником - вопрос другой. Нынешних меценатов
ориентируют на сиюминутную моду, они, в большинстве своем, перестали
ценить классическую живопись, как в свое время делал, например, Павел
Третьяков.
культура: Каково сегодня положение реализма в изобразительном искусстве?
Белюкин: Термин этот уязвим, поскольку отсылает к двум
искусственно придуманным в СССР стилям - соцреализму и критическому
реализму, к которому отнесли, например, художников-передвижников. Я
предпочитаю говорить о классическом искусстве.
культура: Речь идет об изображении окружающего мира таким, как его видит глаз, без намеренных искажений и потери предметности?
Белюкин: Все «измы», которые разрушают природную, божественную
гармонию, давно в особой чести. Богатые их финансируют, рекламируют,
раскручивают. Даже в старых художественных музеях (например, в
Третьяковке), создававшихся как «храмы гармонии», появляются разделы
весьма специфического «актуального искусства», которые Павел Михайлович в
жизни бы не приобрел и не повесил у себя. Но вот непреложный факт:
вопреки всем ухищрениям, эти направления привлекают зрителей не так, как
классическое искусство. Нас, «классиков», или, если хотите,
«реалистов», сегодня в мире все меньше. Мы не в «мейнстриме», и чем
меньше о нас информации - тем больше тянутся к полотнам обычные люди,
уставшие от различных изломов психики.
Фото на анонсе: Соломон Лулишов/РИА Новости
Источник: Газета "Культра"







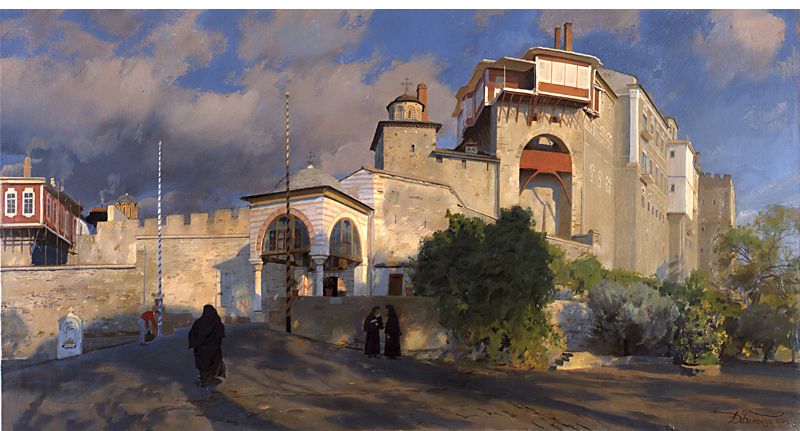








 Всеволодович кв.jpg)









