
Для нас привычно представлять сферу политики следующим образом: население образует массив избирателей. Это — электоральное поле, в котором действуют партии, предлагая себя избирателям как некий продукт. Предполагается, что человек может выбрать, в принципе, любую партию (отдать за неё свой голос), если предвыборная аргументация этой партии покажется ему наиболее убедительной. Этим объясняется феномен предвыборной агитации — всплеска активности партий накануне выборов. Партии вступают в период острой конкуренции и начинают бороться за голоса избирателей.
Подобная модель организации политической жизни так прочно усвоена обществом, что кажется нормальной. Раздражает только, что после того, как прошли выборы, партии словно забывают о своих избирателях — до новых выборов. Забывают они и о сделанных предвыборных обещаниях, что и не удивительно — то, что озвучивалось во время предвыборной кампании, предназначалось лишь для создания нужного впечатления, а вовсе не было имманентной целью самой партии. Главная цель современной партии — не реализация программы, а получение максимально возможного числа голосов. Должное количество голосов означает места в представительных органах и финансирование партии из бюджета. Хорошо проведённые выборы дают ощутимый экономический эффект и кормят партию. А обретённый статус депутата приносит власть и обеспечивает юридическую защиту. Этим горизонт истинных целей обычно и исчерпывается.
Между тем, описанная партийно-политическая модель (назовём её «электоральной») противоречит идее демократии и изначальной концепции политических партий. Демократия мыслилась как система, при которой власть осуществляется самим народом через институт избранных представителей. Партии же в этой системе представляли собой самоорганизующиеся объединения различных социальных групп. Наиболее активные люди из той или иной группы создавали партию, которая выражала интересы всей группы. Через свою партию социальная группа получала представителей в законодательном органе, которые действовали в соответствии с партийной программой. Программа отражала интересы «материнской» социальной группы. Смысл существования «классических» партий был в реализации программы (а не в прохождении в парламент). Избиратель сравнивал программы, находил ту, которая была близка именно ему, и голосовал за соответствующую партию.
Сегодня программы перестали быть главным документом партийной жизни, превратившись в проформу. Они пишутся, потому что так принято и положено, и состоят в основном из заявлений. Чем дальше партия от власти, тем громче её заявления. Они могут быть любыми, поскольку их цель — привлечь не голоса, а только внимание. Для привлечения голосов эпатаж не подходит. Нужно говорить то, что люди хотят услышать. Эта «работающая» часть программы, соотнесённая с реальностью, у разных партий сближается вплоть до полной неразличимости. Именно поэтому программы больше не имеют значения — они слишком похожи и не дают избирателям оснований для рационального выбора. В конечном итоге главное, что обещают партии электорату, — это хорошую жизнь и достойный доход.
Если власть в целом справляется с управлением, обеспечивая народу приемлемый уровень жизни, то достаточно одной партии, ассоциированной с властью. Однако внезапное появление проблем такую систему может опрокинуть. Более устойчива двухпартийная структура. Во время кризиса власть переходит от одной партии к другой, при этом ничего принципиально не меняется, поскольку в современной «электоральной» модели смыслы, к которым апеллируют партии, имеющие реальный политический вес, в общем-то одни и те же.
И это — не какая-то особая политическая хитрость, не злая воля и не попытка обмануть избирателей. Избирателей, конечно, обманывают, но зона обмана лежит дальше — там, где дела расходятся с обещаниями. А в области обещаний наблюдается полная гармония: избирателям говорят то, что те хотят услышать. Следовательно, если разные партии озвучивают близкие по смыслу вещи, то таковы ожидания электората.
Кризис традиционной, «программной» модели политического пространства, где партии выражали интересы социальных групп, переход к модели «электоральной», где избирателям, прежде всего, «продают» эмоции, а не смыслы, связаны с изменением структуры общества. А вернее — с деградацией его структуры.
Современная культура взращивает атомарного человека. Мы воспитываемся в духе самодостаточности — каждый ценен сам по себе; будучи обособленными, мы нисколько не утрачиваем своего качества, а потому принадлежность к любой общности для нас глубоко вторична, она нам ничего не добавляет. Если мы и объединяемся с другими, то это внешнее, не сущностное объединение; это, скорее, просто установление взаимоотношений, связей, чем нахождение общего центра смыслов. Мы хорошо знаем свои личные интересы, и они весьма персональны; интересы, общие с другими, далеко не столь значимы, они больше предполагаются, чем доминируют. Современные люди автономны, как горошины, и потому похожи друг на дружку практически до полной неотличимости.
И снова можно сказать, что подобное состояние — в первую очередь беда современного человека, а не его вина. У случившейся автономизации есть объективные причины. Распалась традиционная организация общества. До наступления современной нам эпохи Постмодерна общество предполагало выделение значительных групп людей, объединённых своим функционалом (социальной ролью). Этот функционал не просто задавал место в экономических отношениях, но и создавал особые смыслы. Так, крестьянин, кормившийся от земли, находился в семантической системе, определяемой календарём сельскохозяйственных работ. Успех крестьянского хозяйства был невозможен без правильного отношения к земле. Предприниматель (ремесленник или купец) имел своё дело, которое должен был знать в совершенстве. От дворянина в идеале требовалась служба царю и Отечеству. Принадлежность к социальной группе передавалась по наследству; это означало, что молодое поколение чувствовало необходимость в восприятии определённого комплекса смыслов. Молодёжь училась не только хозяйственным действиям (профессиональным навыкам), но и перенимала стоящие за ними понятия и идеи.
Индустриальное развитие привело к краху традиционной социальной структуры. Постоянное появление новых технологий сделало модернизацию непрерывным процессом, перечеркнув семейный путь обретения знаний и навыков («от отца к сыну»). Теперь учиться надо на стороне, а, коли так, то можно выучиться на кого угодно. Общество разрешило и даже стало поощрять персональную динамику, в результате которой люди отрывались от социальных корней. Новая техника требовала новых специалистов. Это раскрывшееся окно возможностей создало тягу, раздувшую идеи социальных и личных свобод. Человек начал освобождаться от всего, что до тех пор выполняло роль социального каркаса. Шаг за шагом расторгались все внеэкономические зависимости. В итоге получился чисто экономический человек. Социализм на этом пути можно рассматривать, как попытку отбросить и экономическую зависимость. Вернее, свободным от экономической зависимости мыслился коммунизм, но мостика от социализма к коммунизму, как показала история, не существует. Столкнувшись с невозможностью перехода на «ту сторону» экономики, социализм потерпел идеологическую катастрофу, и экономический человек восторжествовал.
В какой-то момент неэкономические смыслы оказались если не отброшены, то полностью вытеснены на периферию общественного сознания. При этом вытеснение таких смыслов происходило не только во внеэкономических областях (что привело к их перестройке по принципу экономической эффективности), но и внутри самой экономики. Единственным стимулом хозяйственной деятельности оказались деньги.
Все стороны человеческого бытия подверглись монетизации. Неважно, чем ты конкретно занимаешься, важно, какой доход это тебе приносит. Получение дохода и возможность потратить полученные деньги стали базовыми, а порой и единственными смыслами человеческой жизни.
Вот такой, денежноориентированный человек и образует субстрат электоральной политической системы. Политики больше не видят ниточек, за которые они могли бы дёргать, осталась лишь одна большая кнопка, на которую они могут давить — это получение дохода. Любая партия должна обещать, что доходы возрастут, и это единственное, что действительно может заинтересовать современного избирателя. Поэтому начинка политических обещаний у всех одна и та же, различается лишь обёртка. Избирателям можно предлагать артистов, спортсменов и космонавтов, личное обаяние стало важнее семантики, потому как семантика условна — в конечном счёте, всё так или иначе строится на деньгах.
Этот кризис политики как таковой, по идее, должен был привести к полному её вырождению. Однако в последнее время мы наблюдаем возвращение неэкономической тематики в повестку дня. Сегодня чётко выделяются как минимум три семантически значимых неэкономических блока. Это — права меньшинств (гендерное равенство, ЛГБТ-идеология, BLM, воукизм и т.п.), экологизм (борьба со всевозможными загрязнениями, включая «загрязнение» Земли самим человеком, — поэтому в этот блок входит трансгуманизм и связанные с ним смыслы) и эпидемическая безопасность (обмен традиционных прав человека на санитарную лояльность).
Эти идеологические комплексы агрессивно внедряются в общественное сознание, подавляя экономические интересы и замещая поиск денежной выгоды иной мотивацией. Соответственно, возникает почва для возвращения «программного подхода» в политическую жизнь. Партии могут снова ставить конкретные цели и пытаться им следовать. Это уже происходит. Всё громче о себе заявляют «зелёные», сделавшие акцент на экологической теме; они уже не могут считаться организациями фриков и маргиналов. Права меньшинств подхвачены социал-демократами и прочими левыми. Теперь это — ключевой элемент их партийной программы. Российские левые в этом отношении отстают, поскольку ассоциируют себя с советской идеологией, которая была скорее традиционалистской, чем прогрессистской. Однако с уходом старшего поколения можно ожидать идеологического сближения отечественных левых с общемировым левым движением — розовым (и даже розово-голубым), а вовсе не красным. Эпидемическая безопасность повсюду взята на щит правящими партиями. Это позволяет им усилить своё доминирование. Власть получает дополнительные аргументы, которые общество готово воспринимать.
Как всегда, экспансия идей происходит, когда находится значительное количество людей, способных их принять. В этой массе любые организационные усилия легко получают желаемый отклик. Продвижение идеи естественным образом приходит к построению организации. А вот сопротивление новым идеям не имеет общего основания. Разные люди не приемлют навязываемую им идею по совершенно разным причинам. Поэтому голоса «за» выглядят слаженным хором, а голоса «против» звучат вразнобой. И мы видим, что в той проекции общественных устремлений, которую образуют политические партии, новые идеологии уже представлены, а политической силы, которая бы противостояла идущей идеологической экспансии, пока толком не сформировалось.
Соответственно, возможны два сценария. По первому из них организованной силы, способной защитить общество от захлестнувшей его перестройки, так и не возникнет, и мы получим культуру, в которой развитие будет ограничено, а потребление лимитировано (чтобы не вредить экологии), степень разделённости людей возрастёт (поскольку всякое меньшинство будет получать режим максимального благоприятствования), любое социальное объединение станет невозможным (кроме потребительского), всякий шаг каждого человека окажется под контролем и, более того, он должен быть заранее санкционирован (ввиду необходимости соблюдения санитарных норм). Поскольку этот сценарий уже реализуется, он наиболее вероятен.
Второй сценарий предполагает, что здоровые силы в обществе смогут преодолеть свою растерянность и начнут действовать, преобразовав свои частные протесты и несогласие с насаждаемой «новой идеологией» в политическую позицию. Тогда станет возможным создание подлинно консервативной партии, в программе которой будет защита населения от санитарного беспредела, слепого следования сомнительным тезисам экологизма, отстаивание интересов большинства и традиционных ценностей.
То, что запрос на подобную программу в обществе существует, показывает, например, идущая сейчас во Франции политическая борьба в преддверии президентских выборов, которые должны состояться в апреле 2022 года. Согласно последним опросам общественного мнения второе место занимает Эрик Земмур — фигура ультраконсервативная: он убеждённый противник феминизма, поощрения иммиграции и снисходительного отношения к мигрантам, ковид-сегрегации и общеевропейской интеграции. Но первое место — у нынешнего президента Франции, Эммануэля Макрона, являющегося агентом реализации первого сценария. У нас в России за первый сценарий в той или иной степени играют все, а серьёзной консервативной силы пока не видно.
Андрей Владимирович Карпов, публицист, главный редактор сайта «Культуролог»















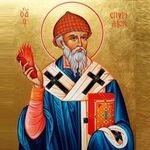





1.
И, с другой стороны - может, опять дело в деньгах и, в целом, грубых материях. Мигранты - это преступность и деньги, которые на их содержание отрываются от своих. Климатическая повестка с переходом к зелёной энергетике отражается на счетах за электроэнергию, например, довольно чётко. Подчинённость евробюрократии, опять же, означает, что надо отстёгивать свои деньги неизвестно куда, на какие-то непонятные общеевропейские нужды.
И только гендеры никого не трогают - в смысле, ни по физиономии, ни по карману никого не бьют. Гомосексуалист тебе голову не отрежет, а приезжий исламист - отрежет. Так кто хуже?
Более того, можно даже представить себе человека "нетрадиционной ориентации", который тоже и против мигрантов, и против ЕС, и "против климата". Потому, что он тоже человек, который ходит по тем же улицам и платит те же деньги из своего кармана.
Притом, что гендерная революция, повторяю - худшее, что может быть из всего глобально-либерального списка. Но попробуй ещё это обоснуй.