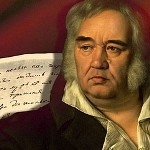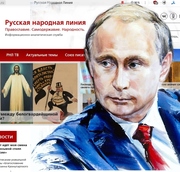30 апреля/13 мая – память свт. Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского (1867)
Сегодня хорошо известен отзыв святителя Игнатия (Брянчанинова), в ту пору архимандрита, настоятеля Троице-Сергиевой пустыни близ Санкт-Петербурга, о книге Н.В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», который, по общему признанию, является наиболее значительным и авторитетным мнением из всех высказанных духовными лицами. Приведем его по авторизованному списку, хранящемуся ныне в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки в Москве и ставшему известным сравнительно недавно. «Виден человек, обратившийся к Богу с горячностию сердца, – пишет святитель Игнатий. – Но для Религии этого мало. Чтоб она была истинным светом для человека собственно и чтоб издавала из него неподдельный свет для ближних его, необходимо нужна в ней определительность, и определительность сия заключается в точном познании истины, в отделении ее от всего ложного, от всего лишь кажущегося истинным»[1].
«Но одной чистоты, – продолжает святитель, – недостаточно для человека: ему нужно оживление, вдохновение. Так, чтоб светил фонарь, недостаточно часто вымывать стекла, нужно, чтоб внутри его зажжена была свеча. Сие сделал Господь с учениками Своими. Очистив их истиною, Он оживил их Духом Святым, и они соделались светом для человеков. До приятия Духа Святаго они не были способны научить человечество, хотя уже и были чисты. Правда, есть у человека врожденное вдохновение, более или менее развитое, происходящее от движения чувств сердечных. Истина отвергает сие вдохновение как смешанное, умерщвляет его, чтоб Дух, пришедши, воскресил его обновлением состояния. Если же человек будет руководствоваться прежде очищения истиною своим вдохновением, то он будет издавать для себя и для других не чистый свет, но смешанный, обманчивый: потому что в сердце его лежит не простое добро, но добро, смешанное со злом, более или менее»[2].
Применив данные основания к книге Гоголя, святитель Игнатий заключает: «…она издает из себя и свет, и тьму. Религиозные его понятия не определены, движутся по направлению сердечного вдохновения; неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного. Книга Гоголя не может быть принята целиком и за чистые глаголы истины. Тут смешано. Желательно, чтоб этот человек, в котором видно самоотвержение, причалил к пристанищу истины, где начало всех духовных благ»[3].
В завершение святитель советует своим друзьям по отношению к религии заниматься единственно чтением святых отцов, «стяжавших очищение и просвещение, как и апостолы, и потом написавших свои книги, из коих светит чистая истина, и кои читателям сообщают вдохновение Святаго Духа»[4]. Мнение святителя Игнатия о книге Гоголя, как видно, разделяли и Оптинские старцы. В библиотеке обители, в Иоанно-Предтеченском скиту хранился экземпляр «Выбранных мест из переписки с друзьями» с вложенным в него отзывом святителя Игнатия, переписанным рукой преподобного Макария[5]. Каким образом отзыв попал в Оптину Пустынь – неизвестно, возможно, его привез сам Гоголь. Со старцем Макарием он встречался в 1851 году во время второго (2–3 июня) и третьего (24–25 сентября) посещения монастыря.
Ф. Москвитин. Гоголь в Оптиной
Отзыв святителя Игнатия стал известен Гоголю в то время, когда он находился за границей. По выходу книги П.А. Плетнев, по просьбе Гоголя, отправил два экземпляра друзьям писателя Балабиным. Мария Петровна Вагнер (рожденная Балабина, бывшая ученица Гоголя) одну из книг передала для прочтения архимандриту Игнатию, и тот возвратил ее со своим отзывом. Плетнев переслал его Гоголю в письме от 4 апреля 1847 года В ответном письме из Неаполя от 9 мая (н. ст.) 1847 года, поблагодарив Плетнева за присланный отзыв, Гоголь признал справедливость упреков («Что касается до письма Брянчанинова, то надобно отдать справедливость нашему духовенству за твердое познание догматов. Это познание слышно во всякой строке его письма. Все сказано справедливо и все верно»), но утверждал, что для произнесения полного суда над книгой «нужно быть глубокому душеведцу, нужно почувствовать и услышать страданье той половины современного человечества, с которою даже не имеет и случаев сойтись монах; нужно знать не свою жизнь, но жизнь многих. Поэтому никак для меня не удивительно, что им видится в моей книге смешение света со тьмой. Свет для них та сторона, которая им знакома; тьма та сторона, которая им незнакома…»[6].
Последнее замечание Гоголя о святителе Игнатии едва ли справедливо. Мир тому был хорошо известен – до монашества он служил военным инженером, вращался в высших кругах Петербурга и среди литераторов и, таким образом, имел возможность изучить человеческие страсти. С ранней юности стремившийся к подлинной духовной жизни и явивший в себе высокий образец такой жизни, святитель Игнатий в этом смысле был, разумеется, неизмеримо опытнее Гоголя. Весьма показательно, например, его отношение к популярной в России книге «О подражании Иисусу Христу» Фомы Кемпийского. Эта книга, которую многие современники Гоголя (и, в частности, А.С. Пушкин) ставили едва ли не в один ряд со Святым Евангелием и которой одно время увлекался сам Гоголь, оказала определенное влияние на «Выбранные места…». Насколько Гоголь в те годы высоко ценил писание Фомы Кемпийского, настолько святитель Игнатий резко его порицал. «Книга эта написана из “мнения”, – считал он, – и ведет читателей своих прямо к общению с Богом, без предочищения покаянием: почему и возбуждает особенное сочувствие к себе в людях страстных, незнакомых с путем покаяния, не предохраненных от самообольщения и прелести, не наставленных правильному жительству учением святых отцов Православной Церкви». «Кокетничанье пред Богом» – такова, по словам святителя, самая верная оценка книги Фомы Кемпийского[7].
Следует иметь в виду, что говоря о «страданье той половины современного человечества, с которою даже не имеет и случаев сойтись монах», Гоголь подразумевал людей неверующих, тех, кто не ходит в церковь, которым он, собственно, и адресовал свою книгу. В тот же день, что и П.А. Плетневу, Гоголь писал протоиерею Матфею Константиновскому: «Мне кажется, что если кто-нибудь только помыслит о том, чтобы сделаться лучшим, то он уже непременно потом встретится со Христом, увидевши ясно, как день, что без Христа нельзя сделаться лучшим, и, бросивши мою книгу, возьмет в руки Евангелие»[8].
Можно сказать, что эта мысль Гоголя и есть тот итог, к которому он пришел в результате своих размышлений о писательстве. Но этот итог не запрещал ему художественного творчества, а лишь подвигал к решительному его обновлению в свете евангельского слова.
В своей книге Гоголь сказал, чем должно быть, по его мнению, искусство. Назначение его – служить «незримой ступенью к христианству», ибо современный человек «не в силах встретиться прямо со Христом» («О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности»)[9]. По Гоголю, литература должна выполнять ту же задачу, что и сочинения духовных писателей, – просвещать душу, вести ее к совершенству. В этом для него – единственное оправдание искусства. И чем выше становился его взгляд на искусство, тем требовательнее он относился к себе как к писателю.
В сравнении со святыми отцами (а этой мерой и руководствовался святитель Игнатий) кто может устоять? К.Н. Леонтьев отдавал предпочтение преподобному Иоанну Синайскому, автору «Лествицы», – одной из главных книг в монашеской аскетике, перед Ф.М. Достоевским. «…Надо доходить скорее до того, чтобы Иоанн Лествичник больше нравился, чем Достоевский…», – писал он А.А. Александрову в июле 1887 года из Оптиной Пустыни[10].
Однако это вовсе не означает, что Ф.М. Достоевский не нужен. Православие отвергает крайности в отношении культуры – и культурный нигилизм, и абсолютизацию культуры. Оно декларирует генетическую зависимость культуры от культа. В мировоззрении православного человека культура не может быть высшей ценностью, поскольку земной мир не вечен. Но культура является необходимым этапом для душевного развития человека. В христианской трихотомии «тело – душа – дух» культура, литература относятся к сфере душевной.
Вместе с тем святые отцы с большой осторожностью относились к художественному творчеству. В нем есть очень много соблазнительного. В состоянии вдохновения могут быть написаны очень лукавые, даже страшные вещи. Это прекрасно понимал Гоголь. В повести «Портрет» (редакция «Арабесок», 1835) монах-художник, ушедший в монастырь, делится своим религиозным опытом с сыном-офицером: «Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во всё силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника»[11].
Не следует преувеличивать степень расхождения Гоголя со святителем Игнатием. Забота о христианском просвещении России была у них общая. Совпадая в критике европейской цивилизации и признавая превосходство перед ней в религиозном отношении древнего патриархального быта, Гоголь и святитель Игнатий расходились лишь в представлениях о самом характере пастырского влияния на народную жизнь. Примечательно, например, что развернутая 12 лет спустя А.И. Герценом полемика со святителем по вопросам крепостного права и роли европейской цивилизации в судьбе России во многом повторяла спор В.Г. Белинского с Гоголем.
Своеобразным итогом заочного диалога двух выдающихся представителей русской культуры, классиков отечественной литературы, могут служить слова, сказанные новомучеником протоиереем Иоанном Восторговым[12] на панихиде по Гоголю в 1903 году, в которых ясно видится смысл его духовного значения: «Вот писатель, у которого сознание ответственности пред высшею правдою за его литературное слово дошло до такой степени напряженности, так глубоко охватило все его существо, что для многих казалось какою-то душевною болезнью, чем-то необычным, непонятным, ненормальным. Это был писатель и человек, который правду свою и правду жизни и миропонимания проверял только правдою Христовой. Да, отрадно воздать молитвенное поминовение пред Богом и славу пред людьми такому именно писателю в наш век господства растленного слова, – писателю, который выполнил завет апостола: слово ваше да будет солию растворено <Кол. 4, 6>. И много в его писаниях этой силы, предохраняющей мысль от разложения и гниения, делающей пищу духовную удобоприемлемой и легко усвояемой Такие творцы по своему значению в истории слова подобны святым отцам в Православии: они поддерживают благочестные и чистые литературные предания»[13].
Владимир Алексеевич Воропаев, доктор филологических наук, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, член Союза писателей России
Примечания
[1] Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: В 17 т. Т. 9. / Сост., подгот. текстов и коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009. С. 756–757.
[2] Там же. С. 757.
[3] Там же. С. 757–758.
[4] Там же. С. 758; см. также: Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя (1809–1852): в 7 т. Т. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 656–657.
[5] См.: Богданов Д.П. Оптина Пустынь и паломничество в нее русских писателей // Исторический Вестник. 1910. № 10. С. С. 332–334; Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое изд.: В 3 т. Т. 3 / Издание подгот. И.А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 733–734.
[6] Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 14. С. 269; см. также: Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя. Т. 5. С. 686–687.
[7]. Полное собрание творений святителя Игнатия (Брянчанинова): В 8 т. Т. 1. М.: Паломник, 2001. С. 235, 236, 239.
[8]Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 14. С. 267.
[9] Там же. Т. 6. С. 59, 58.
[10] Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1884–1891. СПб: Пушкинский фонд, 1993. С. 318.
[11] Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 7. С. 317.
[12] Прославлен в лике святых Русской Православной Церковью в 2000 году. Память его совершается 23 августа / 5 сентября (день кончины) и 22 января / 4 февраля (Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской).
[13] Восторгов И.И., протоиерей. Честный служитель слова / Речь на панихиде по Н.В. Гоголю по случаю открытия ему памятника в гор. Тифлисе, сооруженного городским самоуправлением // Восторгов, И.И. Полное собрание сочинений: В 5 т. Т. 2 (Репринт. изд.). СПб., 1995. С. 226–227.