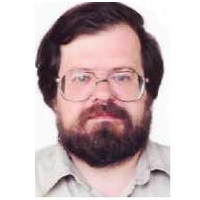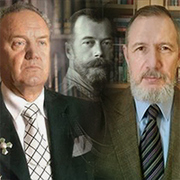Величественная мудрость отмечает поэзию Евгения Боратынского: достаточно вчитаться в стихотворение «Смерть», сопоставив с обыденным, онтологическим страхом её, присущим, казалось бы, любому человеческому существу:
Смерть дщерью тьмы не назову я
И, раболепною мечтой
Гробовый остов ей даруя,
Не ополчу её косой
О дочь верховного Эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.
Столь глубинное вглядывание в феномен смерти поражает: словно поэт использует другое зрение, чья природа непонятна, будто он видит источник и впрямь пронизывающий действительность лучами любви, когда и смерть напоена ею…
Тем не менее, мотивов разочарования, как – некогда – неистовства – достаточно в поэзии поэта, и они столь музыкальны, что щедрое звучание романса словно само возникает: музыка стиха ведёт:
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Точность крупных слов: словно каждое окружено аурой особой значимости, и, сочетая их, поэт даёт новые и новые смыслы, все оттенки ощущений, присущие тонкому сердцу, собирая…
Своеобразие скромности?
Поэт позиционирует себя резко, производя, тем не менее, роскошно звучащий стих, вдвинутый во все времена, пропущенный через большинство антологий:
Мой дар убог и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдёт далёкий мой потомок
В моих стихах: как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашёл я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
Во всех поколениях нашлись читатели – и дальше так будет; хотя поэзия Боратынского требует особенной чуткости…
Он не любил внешние эффекты, предпочитая глубину.
Мудрость рождает кротость в сердце.
Техника – по тогдашним меркам современная: пироскафом некогда называли пароход – входит в реальность поэзии: поэт отзывчив на все явления бытия, и «Пироскаф», разрезающий волны, словно осиян поэтическим глаголом в неменьшей мере, нежели области чувств:
Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан:
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!
Его стих твёрд – словно занимает мрамора у классицизма, хотя и свободен от излишков приподнятости прошлого направления.
Но – Боратынский мыслит именно на возвышенной волне, словно и не опускаясь в низины, хотя и используя всю разнообразную конкретику мира.
Мир богат.
Ничего из колоритных деталей его, сочных подробностей упускать не хочется.
Жёстко чеканится посвящение «Дядьке-итальянцу»:
Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,
Янтарный виноград, лимон её златой
Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,
И в край, суровый край, снегами покровенный,
Приставший с выбором загадочных картин,
Где что-то различал и видел ты один!
Янтарь переливается, лимон, блещущий златом, дан… отчасти, как символ, и великолепие выделки стиха связано будет с ранними годами поэтами, воспоминания мелькнут, развернётся широкая панорама – длинного стихотворения, или маленькой поэмы…
Вместе у Боратынского всегда словно позиции жизни перевивают волокна смерти, однако, памятуя, как трактует её, сложно увидеть отчаяние в таком отношение к действительности.
Смерть работает, «смиряя буйство бытия»…
Ибо:
Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган,
Ты, на брега свои бегущий,
Вспять возвращаешь океан.
Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.
Мраморное величие стиха.
Кротость и мудрость.
Всё это соединяя, Боратынский остаётся сиять – в каждом новом поколении находя множество читателей, завораживая и заражая их классической своей, приподнятой поэтической речью…