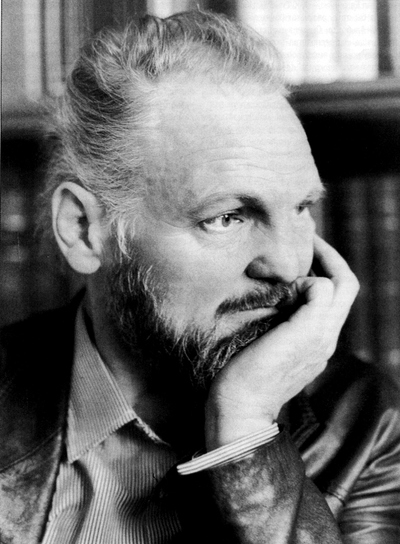
Почти всю мою последнюю жизнь, то есть лет двадцать, меня постоянно не то, чтобы уж очень мучают, но посещают мысли, что я, еще, в общем-то, ни до чего не дописавшись, уже исписался. И не то, чтоб исписался, а весь как-то истратился, раздёргался, раздробился на части, на сотни и сотни вроде бы необходимых мероприятий, собраний-съездов-заседаний, на совершенно немыслимое количество встреч, поездок, выступлений, на сотни и сотни предисловий, рекомендаций, тысячи писем, десятки тысяч звонков, на все то, что оказывалось потом почти никому не нужным, но что казалось борьбой за русскую литературу, за Россию.
Но меня утешала мысль, что так, по сути, жили и все мои сотоварищи по цеху. Слабое утешение слабой души. Всё почти, что я нацарапал – торопливо, поверхностно. Когда слышу добрые слова о каком-либо рассказе, написанном лет сорок назад, кажется, что говорят так, жалея меня, сегодняшнего. Похвала давно угнетает меня. Быть на людях, быть, как говорят, общественным человеком очень в тягость. Ощущение, что поверили не мне, а чему-то во мне, что могло им послужить. Вот, обманываю ожидания. Тут даже написалось нечто на тему:
Как будто и не жил, натурил
И своё счастье упустил.
Сам виноват – литературил:
Рассказничал, миниатюрил,
Статейничал и повестил,
И постоянно говорливил,
И с кем попало ел и пил…
И ни семьи не осчастливил,
И состоянья не скопил.
Что ж, присно каюсь – сам виновен,
Что гибну под лавиной строк.
Но, может, путь мой был духовен,
И, даст Бог, оправдает Бог?
Вот только на это и надеюсь, на оправдание. Жизнь моя крепко срослась с жизнью России, что я не могу уже ни о чем писать, кроме как о своем Отечестве. Но так может писать и историк, и философ, а я-то числюсь по разделу изящной словесности. Да, кажется, есть чем отчитаться перед Всевышним: боролись за чистоту российских вод, за спасение русского леса, за то, чтоб не было поворота русских рек на юг, за преподавание Основ Православной культуры… боролись же! Крохотны результаты, но уходило на борьбу и здоровье, и сама жизнь. Обозначено же в алтаре Храма Христа-Спасителя, что и аз грешный начинал возрождение его. Вот и награда Церкви – орден. И можно внукам показать.
Но и что? И золотятся, купола, и издается Священное писание, и труды Отцов, и всё свято-русское наследие доступно, а жить всё тяжелей и тяжелей. Россию ненавидят, Россия гибнет. Уже кажется, что нет нам, любящим Россию, оправдания. Мне особенно. Но тут же себя одёргиваю: «А ты как хотел? Чтоб всё тебе с неба упало? Нет, мы ещё не до крови сражались, как говорится в апостольском слове. И ненависть к нам означает награду для нас. Это не к нам ненависть, а ко Христу. Всегда же так было. Распинали, ломали кости, сдирали кожу, требовали отречения от Христа, поклонения кумирам.
А что есть теперешнее издевательство над всем святым? То и есть, что это пытки, которые нам надо вытерпеть.
И дождёмся же царя Константина православного.
РАДИ УЛЫБКИ
Служил я три года в нашей победоносной Советской армии, и никакой дедовщины и видом не видывал. Ну да, были и старики, были и салаги, естественно. Но, чтобы старослужащие издевались над новобранцами – никогда! Знаю, что говорю, я дослужился до старшины дивизиона.
Но вот одну весьма милую шутку я сегодня вспомнил, когда дети спросили: «А какие у вас были раньше первоапрельские шутки?» Тут я строго ответил, что первое апреля – это начало недели перед Благовещением, и это время Великого поста, какие же тут шутки? Но вспомнил одну шутку из прежнего, из армейского времени, и с удовольствием о ней рассказал. И коротко запишу.
В дивизион осенью пришло пополнение – хлопцы с Западной Украины. Ребята на службу рьяные, особой возни с ними у сержантов не было. Даже до сих пор некоторые фамилии помню: Доть, Аргута, Коротун, Титюра, Балюра, Тарануха, Поцепух, Копытько, Падалко. Одним только выделялись - сильно любили поощрения.
- Товарищ старшина, вы же ж сами дуже хвальны были за наряд по кухне.
- И шо ж с того? – спрашивал я.
- Тады же ж мабуть благодарность перед строем треба размовить.
- Мабуть иди, - сурово говорил я. – Награды в нашем славном ракетном дивизионе не выпрашивают, их, когда надо, дают. И, когда надо, вы их получите. Ясно? Или це дило тоби треба розжувати?
Мои сержанты, третьегодники, задумали на первое апреля нижеследующую шутку.
Они пошли, тайком от меня, в штаб к знакомой машинистке и умолили её напечатать на чистой странице, даже не на служебном бланке, приказ о досрочном присвоении звания ефрейтора всем нашим первогодкам. «В связи с тем, - значилось в приказе, - что нижепоименованные рядовые показали себя образцовыми в деле воинской и политической подготовки, в дисциплине, в несении нарядов по внутренней и караульной службе… дальше шли фамилии фактически всех новобранцев украинского призыва».
Сержанты поклялись машинистке, что никто из офицеров этого листка не увидит, что его вернут ей и при ней уничтожат. Парни были огневые, красавцы: Толя Осадчий из Киева, Леха Кропотин и Рудик Фоминых из Вятки, уговорили. И листок ей, как обещали, назавтра вернули.
Звание ефрейтор – первичное, одна лычка на погонах. Дальше идут младший сержант – две лычки, просто сержант – три лычки, старший сержант – одна широкая и так далее. Прапорщиков при нас не было.
Обычно после ужина я убегал в библиотеку, оставляя дивизион на дежурного. Если что, всегда знали, где меня искать.
Сержанты, привели дивизион с ужина и, не распуская строя, объявили что поступил приказ о присвоении воинских званий, его торжественное оглашение будет завтра на общем построении, но надо к этому торжеству подготовиться, то есть пришить лычки. Тем, кому звания присвоены.
- Приказ на доске Почета в ленкомнате.
Почему на доске Почета, а не у тумбочки дневального, это тоже было продумано: не хотели подставлять ни дежурного, ни дневального.
Строй распустили, все кинулись читать приказ. Радостные крики оглашали казарму. Друзья мои, сержанты, объясняли, что это такая особая честь только нашему дивизиону, а мы и правда только что хорошо провели учебные стрельбы, и что, конечно, это редкость редчайшая, чтобы военнослужащие получали звание так быстро, но тут особый случай, дорогие товарищи новобранцы.
Словом, сели салаги за иголки и нитки. Лычки им отмерил каптенармус Пинчук. Погоны новые выдал он же. Он же и собрал вскоре эти погоны, но уже с пришитыми лычками. Сказал, что раздаст утром, на построение.
Никто не заметил, что приказ скоро исчез с доски. И я, прибежавший проводить отбой и читать наряд на завтра, о нём и понятия не имел.
Вообще я потом даже сетовал парням, что меня не ввели в курс розыгрыша, но парни объяснили, что не хотели меня подводить. Утром, после завтрака, перед построением, сержанты ввязали меня во всегда непростое распределение нарядов на будущую неделю по батареям и взводам. Время летело. Я оторвался от бумаг:
- Крикните дежурному: объявить построение.
Вскоре дежурный заскочил в дверь:
- Старшина – комдив!
Выскочив на крыльцо, я привычно и мгновенно посмотрел на выровненные по линии носки начищенных сапог, скользнул взглядом по гимнастеркам, заправленным в ремни, по блестящим бляхам, по головным уборам и зычно скомандовал:
- Див-зьён! Р-рясь!... Ир-но! Равнение напра-о!
И чётко, по-строевому, пропечатал несколько шагов навстречу нашему подполковнику.
- Тарщ подполковник, вверенный вам дивизион на утренний осмотр и развод построен! Старшина дивизиона…
И увидел вдруг взгляд подполковника. Он смотрел с каким-то недоумением, но не на меня, на выстроившихся солдат. Я невольно тоже поглядел и… и чуть устоял – в первом ряду стояли сплошь ефрейтора. Все в новехоньких погонах, все очень радостные. Они были готовы гаркнуть; «Служим Советскому Союзу!».
- Это кто у тебя в строю? – ласково спросил комдив.
- Понятия не имею, - искренне ответил я.
- А сам ефрейтором быть не хочешь? – поинтересовался комдив.
А дальше? Дальше пошла разборка. Таскали к комдиву и сержантов и «ефрейторов». Все честно говорили, что был приказ. Был. «Вот у туточки, у рамочке». И все это подтверждали.
Но уже во всей части шел такой хохот, так всем понравился наш розыгрыш, что, конечно, было глупо истолковать его как преступление, как чей-то злой умысел или тому подобное. Дежурному сержанту влепили внеочередное дежурство, только и всего. Это ж в тепле, в казарме – это не караул, не круглосуточное бдение на позиции. Я сказал комдиву, что буду рад, если с меня снимут хомут старшины и что я вообще готов в рядовые, в любом звании почётно служить родине. Тем более мне уже надо было готовиться к приёмным экзаменам в институте.
- Перекрестись, что не знал про «ефрейторов», - велел комдив.
Я выполнил приказ, перекрестился.
Мы думали, что и «ефрейтора» не будут обижаться. Но вот как раз они-то и обиделись. И то сказать – только что ощущали на погонах лычки и нет их, сами же и спарывали. Даже сфотографироваться не успели.
- Кляты москали, - возмущались они.
Но мы не обижались. Я вообще искренне думал, что меня это прозвище
возвышает. То всё вятский был, а тут уже москаль.
Вот такое было первое апреля.
О, друзья мои, западэнцы. Однополчане! Братья славяне! Что творят ваши внуки?..




















_1.jpg)

