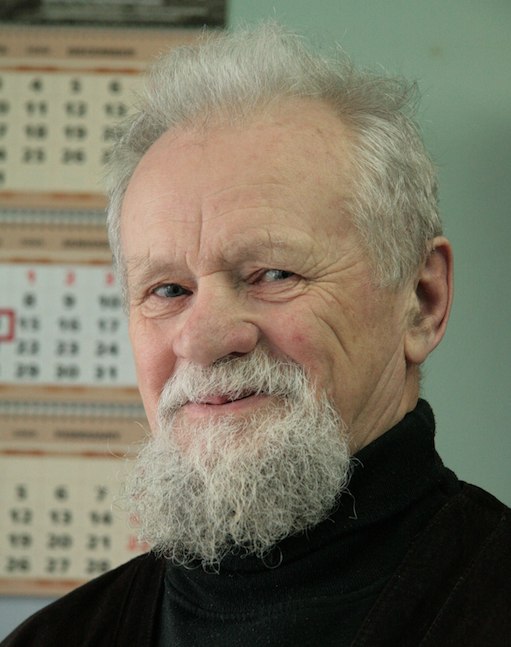Светлой памяти Дмитрия Михайловича и Любови Геннадьевны Рябковых
Говорю о героях «Часа шестого» Василия Белова, а вижу родню. Собственную, из Тотьмы - которая, как и семья беловского Павла Рогова, погрузилась в житейский хаос. В хаосе том оказалась и Вологда. Кто-то спасется в нем. А кто-то и нет. Стоял 1932-й, тот самый год, в котором шла в ногу с временем социалистическая эпоха.
«На Русский Север и в другие края России явились представители «пролетарской» власти в кожаных тужурках и с маузерами на боку, с крикливыми лозунгами и трудно произносимыми фамилиями...- пишет в послесловии книги профессор Санкт-Петербургского государственного университета Р. А. Нелепин. – Явились для того, чтобы сбрасывать колокола и кресты с храмов, грабить и заточать в лагеря за непонятные провинности, разорять земли с волшебной красотой природы и гармоничной с нею неповторимой рукотворной красотой, созданной проживающими здесь веками крестьянами с чистыми душами» .
А сколько людей, которых никто уже не спасет?- спрашивает автор трилогии. Тех, кто хотели бы жить, как жили их деды. Однако мешает этому страшная новизна, повернувшая жизнь людей в непривычную сторону. Как жить по-советски, но не по-русски? Именно этого и не знали почти все жители северных деревень. Об этой трагедии, унижающей, оскорбляющей, а то и калечащей человека, Василий Иванович и посвятил свою трилогию «Час шестый».
Былое – это века, бредущие друг за другом. Живое и мертвое в них, как две стихии. Самое скорбное для души, когда живое становится мертвым. Самое бодрое - это мы, принимающие судьбу. Потому и Рогов из «Часа шестого», как и Рябков из «Бойца», как кумиры для нас, уходящие в вечность, где они забудутся только тогда, когда иссякнет о них наша память. Но этому, кажется, не бывать. И Рябков, и Рогов даже там, где нет уже жизни, выше всяческого забвения и всегда будут около нас а, быть может, и в нас, как орлы, летящие в собственное бессмертие.
ххх
1
Свой день рождения Дмитрий Рябков отмечал незаметно, в домашнем кругу. Он, жена его Люба, бабушка Оля да давний дружок Бронислав Краснолобов, бритоголовый, с подвижным лицом молодой человек, с кем скрепляла его многолетняя дружба и то, что оба работали в леспромхозе, были ретивы и очень любили поговорить о чем-нибудь запрещенном.
Вначале праздником правили дети. Двухлетний Мишутка взбирался отцу на плечи, воображая себя верховым на коне. Галинка же, ревнуя папу к гостю, показывала тому язычок, морщила носик и заявляла: «Плохой!» Было забавно, все улыбались, и Митя, пользуясь случаем, разливал из графина по рюмкам и отпускал каламбур:
- За то, чтоб Плохой стал Хорошим!
И вновь улыбались. А старая Оля, вся, разрумянившись, плавала, будто утица, то к высокому черного дуба буфету, то снова к столу, добавляя к нему новую водку и новые разносолы.
Сентябрьское солнце вплывало в маленький зал.
- Хорошо! – сладко жмурился Митя, поворачиваясь к окну, за которым, как золотые, кипели ветви черемух, поднимая себя из соседнего рва к двум летящим вдоль улицы проводам, постоянно занятым воробьями.
Дети, шаля, убежали за мамой и бабушкой в тихий двор, где затеяли радостную возню, и мужчины, оставшись одни, погрузились в воспоминания.
- Я ведь в семье бедного лавочника родился, - сказал Краснолобов.
- А я - в купеческой, но богатой, - сказал и Рябков.
Краснолобов с улыбкой:
- Поделись, если это не тайна, чем таким были вы разбогаты?
- Какая там тайна! – ответил Рябков. - Было у нас два дома. Один – двухэтажный, второй – вот этот, где мы сейчас стольничаем с тобой. Отец торговал колониальными товарами и тканями. Еще и команду пожарных в городе содержал. Короче, был влиятельным меценатом.
Краснолобова подзадело, что такой тороватый у Мити отец. Не то, что ли у него. О своем отце нечего было Броне и вспомнить. Зато братан был у Брони – второго такого не сыщешь. И Броня не мог удержаться, чтоб не похвастать:
- Звали Доней. Выпивоха из выпивох! А артист! Парички там всякие, усики, бакенбарды, бородки. Всё это сам он и мастерил. Из пакли. Любил выряжаться и в этом наряде на улицу выходил. Не зря и прозвище: Выряжонок. Как-то был подшофе и нарядился в царя. Мундир - на себя. Понятно, не царский, скорее швейцарский. Наклеил еще и бородку. Личиком был тоже, как император, сух и курнос. И ножницами довел бородку до полного сходства её с царёвой. И встречай его, улица, как Императорское Величество! Слава Богу, был поздний вечер, и разглядела Доню лишь пара прохожих. Боже мой! Как они онемели! А на завтра по городу слух: дескать, сам Николай 11 пожаловал в Тотьму, только видеть его нельзя: живет на тайной квартире конспиративно.
В общем, играл мой Доня с огнем. И доигрался. Однажды вышел на улицу в одежде белого офицера. Хотел создать эффектное впечатление. И смелость свою испытать. Да попалась навстречу стайка чистильщиков из чекистов. И Доня слова сказать не успел, как пальнули в него из нескольких револьверов…
- Да-а, - посочувствовал Митя. Вздохнул и, налив по рюмке, участливым голосом предложил:
- Давай-ка за наших братьев. Молча…
Потом он грустно моргнул и задумчиво, как уйдя в минувшее время, заговорил:
- И у меня они были. И не один, а четыре брата. Я – пятый. И все мы играли на духовых инструментах. Я-то тогда совсем еще мальчик. Концерты давали. О-о, как нас принимали! Старший Сергей пел романсы. У него даже прозвище было «Сергей-Соловей». А заканчивали концерт каждый раз «Молитвою русских». Дух захватывало у всех!
Митя увлекся и не заметил, как голос его набрал баритоновый тембр и торжественно, словно ликуя, вывел из прошлого строки сурового гимна:
Боже, царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу нам,
Царствуй на страх врагам,
Царь православный,
Боже, царя храни!
Краснолобов был в диком восторге. Не только лицо, но и вся его бритая голова раскраснелась, в глазах – сумасшедшинки, с нижней губы, как с парадной ступеньки, того и гляди, сорвется ликующий вопль. Едва именинник закончил, как он лихо вскочил и обнял Рябкова, тычась губами в пробор на его голове.
- Даешь, Митюша! Такая великая песня! Ее не в комнате надо петь. А там! – Броня выбросил руку к окну. – На большом берегу! Чтобы слышали все плоты! Все баржи! Все пароходы!
- И наши партийные власти! – подначил Рябков. – Райкомы! Райисполкомы! Родная прокуратура! Любимый до гроба ОГПУ!
Дверь отворилась, и не вошла в нее, а только просунула голову, приложив к губам палец, Митина мама Ольга Васильевна Рябкова:
- Ребята! Вы бы потише! Вас слышно!
Снова налили по рюмке.
- Интересно, - сказал Бронислав, утишая свой громкий голос, - если бы кто из властей нас услышал – чего бы он с нами?
- Турнул бы в тюрьму, - подумал вслух Митя.
- Поэтому, - заключил Краснолобов, - лучше быть начеку. Не показывать сущность свою. А показывать то, что нас бы оберегало.
Улыбнулся Рябков. Улыбка слабая-слабая, словно стесняющаяся чего-то. Она очень шла к его удлиненному, с озорными губами, постоянно приветливому лицу.
- Истину говоришь. Только в жизни бывает наоборот. Затеваешь одно, получаешь другое. Возьми моих братьев. Где они? Нет. А могли бы и быть. - Митя голову опустил. - В первую Мировую всех их забрали в действующие войска. Меня бы тоже туда, да я годами не вышел. Никаких оттуда вестей. Мы уж думаем: всё, скосила коса, едва ли вернутся. А нет! Возвратились! В 18-ом, под самое Рождество. А в это время по всей Руси… - Митя не стал договаривать, дав возможность вклиниться в свой монолог и Броне.
- Идет утверждение власти, - подхватил Краснолобов. - Грабежи. Насилия. Красный террор. Кровь ручьями. В первую очередь убивали белогвардейцев.
Митя кивнул, соглашаясь:
- И братьев моих ожидала такая же участь. Ждали беды от шинелей с бантами. Ходили по городу, как уркаганы. Втроём. Иногда впятером. И не спрячешься никуда. Выручил папа. Когда-то здесь, у нас в Тотьме, жил в ссылке Анатолий Васильевич Луначарский. Нашему папе был чуть ли не другом. Бывал у нас часто, как гость, а то и так приходил, чтоб посидеть, граммофон послушать, отдохнуть за рюмкой купеческого вина. Именем этим и защитились. Но все равно жили братья, как на вулкане.
Стали записывать в Красную армию. Кого вначале? Разумеется, тех, кто был на войне. И братьев туда же! Вступайте, орлы! А орлы - ни в какую. Хватит, навоевались. И тогда, дело было зимой, по морозу, к нашему дому – не к этому, где мы сидим, а к тому, на торговой площади, с двумя крыльцами и этажами, подъехал сводный отряд. Приказали отцу выделить пару коней и сани. И братьев моих – в эти сани. И обязали, чтоб взяли с собой духовой инструмент. Цель какая? Такая, чтоб в армию шли не просто бойцами, а вдохновителями бойцов, то есть духовиками. Чтоб там, на Севере, где выступила Антанта, они ублажали красноармейцев. Возбуждали бы музыкой воинский дух.
Не знаю уж точно, какой дорогой они туда пробирались. Знаю только, что тот обоз был большой, и в Шенкурске, где была сделана остановка, наши бойцы оплошали, попав к англичанам в плен. Братьев вместе со всеми загнали в барак. Держали неделю их там без еды и воды. И выйти нельзя: сторожила охрана. Но день, когда их всех вывели из барака в сугробы, аб, не мешкая, здесь же, в задах огорода и расстрелять, был все-таки к ним благосклонен. Именно в этот день, а может, и час, улицы Шенкурска расшумелись от выстрелов и разрывов. В город входил подоспевший из Вологды 156-ой полк.
Казалось бы, радуйтесь, братья, свободе. Однако были они настолько истощены, что не было ни у которого силы на эту радость. А дальше? Что было делать? Куда деваться? Как дееспособных, в отряд, погнавший Антанту, их взять не решились. И братья остались все в том же бараке без пропитания и без денег. Одним словом, без ничего. Подумали промеж собою, помозговали и пришли к одному – здесь они пропадут. И решили домой. За 500 верст пешком. Шли 20 дней. На ночлег нигде не пускали. Ночевали, в лучшем случае, у костра или, где попадали стога, то в стогах.
Дорога их доконала. А в Тотьме и в дом попасть уже стало нельзя. Реквизирован тотемскими властями и целиком заселён беднотой. Пришлось ютиться в одноэтажном, милостью власти оставленном для семьи, именно в этом, где мы сейчас с тобой отдыхаем. Захирели братья мои, слегли и не стало их, один за другим померли от чахотки. А потом и отец отошел…
Митя устал от рассказа. Закончив его, долго сидел, вглядываясь в окно, словно видел за ним , то тревожное время, от которого и пошел счет семейных потерь.
- Будь она проклята прежняя жизнь! – воскликнул шепотом Краснолобов.
- А нынешняя, чем лучше? – заметил таким же шепотом именинник.
- И снова, Митюша, ты прав! – похвалил Краснолобов. – Я за то, чтоб таким, как ты и мама твоя, возвратили всё, что отняли! И в первую очередь, дом!
Отказался Рябков:
- Теперь уже даром. Не надо. Нам и тут хорошо.
Краснолобов его не услышал. Был он пьян, и его охватило желание выяснить нечто важное для себя. Но выяснить с помощью Мити, который был, по его пониманию, слишком уж честен, и мысли свои не станет утаивать перед ним.
- Что же нас ждет? А, Митюша? Чего, например, ты желаешь от жизни?
Митя лишь вяло махнул ладонью.
- Если по правде, то ничего. Просто хочется жить, как живу.
- А любишь кого? – продолжал Краснолобов. - Имею в виду не жену, тут и так всё понятно. А из общества нашего? Из людей?
Рябков улыбнулся:
- Из людей? Не поверишь - люблю самых скучных. Они никому не мешают. С ними спокойно. И до тебя им нет никакого дела. Не пристают к тебе с пустяками и ерундой.
Краснолобов смутился:
- Не меня ли имеешь в виду?..
Митя:
- Не-е… Ты чего. О тебе я как раз и не думал. Сидишь у меня – и ладно. Тебе хорошо – и мне хорошо. Ты же мой друг! Зачем это надо, чтоб я в тебе колупался?
Броня в миг успокоился, чтобы тут же задать имениннику новый вопрос:
- А опасаешься? Скажи, чего ты больше всего боишься?
- И об этом не думал, - ответил Митя. – Хотя и думать тут нечего. Несправедливости! Она, посмотри хоть туда, хоть сюда, всюду когти выпустила свои. Возьми нашу Сухону. Каждый день по ней баржи плывут. А кто в них? Если сказать по-партийному – кулаки, а по-нашему – несчастливцы. Их бы надо – туда, откуда забрали. И не только их – всех, кто выслан с родной территории на чужую. Или взять искусственные колхозы? Кому нужны они? Да кому угодно, только не людям, которых, как скот, загоняют туда. Опыт за опытом над народом! И конца этим опытам нет.
- А кто виноват? – спросил Краснолобов.
- Большевистская власть, - ответил Рябков.
- И чего с этой властью?
- Как чего? - удивился Рябков. - Заменить!
Краснолобов опять повернулся к окну. И хотя во дворе, кроме Любы и бабушки Оли с детишками, не было никого, показалось ему, что кто-то там прячется и подслушивает их речи.
- Я, пожалуй, пойду, - сказал он, вставая из-за стола. - Просвежусь, а то что-то вот здесь, - ткнул пальцем в голову, - мутновато.
Именинник не стал возражать. Лишь сказал:
- Я тебя провожу.
Во дворе, при виде бабушки Оли и Любы с ребятами, Краснолобов галантно остановился, подарив всем приятнейшую улыбку, которая говорила: «Хорошо мне было у вас, но пора знать и честь», сказал: «До свиданья», и следом за Митей направился за калитку.
Он не слышал, как маленькая Галинка, выбежав из-за мамы, прыгнула следом за ним, скорчила рожицу и сказала:
- Плохой.
2
Осень уже полыхала пожаром березовых листьев, кусты в палисадниках поредели, и солнце, спускаясь, садилось не в поле за лесзаводом, а на откос соснового берега за Зеленей, когда показалась над городом первая стая отлётных гусей.
- Чего-то они рановато, - заметил Рябков.
Краснолобов не согласился:
- Самое время!
Они ступали под тополями, взбивая ботинками желтые листья, два леспромхозовских сослуживца, любивших пройтись время от времени по высокому берегу, чтоб не только глазами, однако и телом, и всем своим существом почувствовать связь с внешним миром, который им открывала большая река. Там, под берегом в зыбкой тени задичавших рябин стояли торговые балаганы. Там же были и кассы, и зал ожидания, и шалаш с негасимым костром бородатого, как пират, караульщика лодок. А чуть правее, за якорем, вплывшим в песок, под линяющим флагом над драночной крышей смотрелась на город дородная пристань. Здесь, по вечерней поре, надо или не надо, густо скапливался народ, словно его притягивало магнитом.
- С родины улетают, - сказал Рябков, всматриваясь в надречье с исчезающей в нем веревкой гусей. – Не хочется, а летят, - добавил, - туда, где никто их не ждет.
Краснолобова меньше всего волновали пролётные птицы. Он улыбнулся, как более умный над менее умным, и иронически произнес:
- Романтик ты, Митя!
- А ты? – огрызнулся Рябков, не любивший, когда его друг начинал выставляться.
- Я – реалист, - сказал Краснолобов, кивая к двум водорезам, возле которых пыхтел грузовой пароходик, заводя на мелкое место неповоротливую баржу. – Птичкам сочувствуешь! А этим?
Митя молча вгляделся в слепую, без окон, баржу, из трюма которой зашевелилось что-то живое, превращаясь в цепочку людей, один за другим потянувшихся к трапу.
- Откуда они? – удивился.
- С Кубани, - сказал Краснолобов, - вчера их тоже сплавляли на такой же точно барже.
Рябков не вспотел, но вытер платочком свой лоб.
- Горемыки из горемык. Птицы весной назад возвратятся. А эти?
- Этим – каюк, - сказал уверенно Краснолобов.
Митя смотрел на гладкие валуны и перевернутые вверх днищем лодки, на которых справляли трапезу выселенцы, для кого сегодняшний вечер был, быть может, последним, ибо рядом стояла, дыша им в затылок, слепая осенняя ночь, а в ночи – уходящая по реке в неведомое баржа. Смотрел Рябков на людей с отобранной родиной и испытывал стыд, словно был перед этим становищем он повинен.
- Давай-ко, Броня, отсюда. Пошли, - предложил Краснолобову.
Краснолобов не был заносчивым человеком, но любил подтрунивать над людьми, в которых вдруг замечал замешательство или слабость.
- Что-о? Задрожали коленки?
- Что есть, то есть, - согласился Митя.
- А я предлагаю туда! – Краснолобов кивнул на серую ровность реки, на фоне которой темнели разбросанные фигурки.
- Я лучше домой, - отказался Рябков, для чего-то расстегивая пиджак.
- Храбрец! – брезгливо выцедил Краснолобов и, хотя не хотел он туда, к этим выброшенным из жизни обитателям Черноземья, наперекор своему настроению, тронулся к ним.
Митя, словно его уличили в чем-то неблаговидном, вспыхнул. «Нет!» - сказал сам себе и, застегивая пиджак, прыгнул с берега на откос, осязая текучесть песка, поплывшего вместе с его ногами по склону.
Суплес против баржи пестрел от вязаных кофт, пиджаков, картузов и платков. Был привал, и приезжие пользовались минутой, чтоб успеть подкрепиться скудной едой не всухую, а запивая ее водой.
Пахло семечками подсолнуха, мокрой галькой, баржой и сопрелой одеждой. Краснолобов, чуя шаги за спиной, шел по песчаному суплесу, приближаясь к привалу переселенцев. Среди них особенно выделялся костистый мужик в двухпудовых, со складками сапогах, сидевший на дне перевернутой лодки и качками руки отправлявший семечки в рот. Другой еды, видимо, не было у него, и семечки ел он, не очищая.
Не успели приятели осмотреть человеческое становье, как от трапа баржи подался в их сторону худощекий, в фуражке-сталинке, с треугольной морщиной во лбу молодой конвоир. Поглаживая щепоткой грубо выбритый подбородок, подошел к ним и дернул плечом, за которым дернулась и винтовка.
- Дале, дале держитесь! Сюда нельзя!
Краснолобов в ту же секунду где-то вверху, над обрывом приметил выблеск стеколышек и, холодея, сообразил, что кто-то их выслеживает в бинокль. Костистый был уже рядом, но справа. В руке у него только что были подсолнечные семянки, и вот – белел треугольник письма.
- Хлопцы, - выдохнул он, умоляя, - ради Христа, бросьте это в почтовый ящик.
Краснолобов сообразил, что это рискованно и опасно.
- Чего захотел! – И, посмотрев на смутившегося Рябкова, обжег его едким взглядом:
- Не вздумай брать!
Не глазами уже, а кожей шеи и головы Краснолобов почувствовал шарящий взгляд. Кто-то смотрел на них с берега, где стоял милицейский дом, обнесенный с востока и севера забором из кирпича. Тут же понял: смотрит на них в свой бинокль один из сотрудников этого дома, кому положено наблюдать за участком реки, куда притыкаются баржи, везущие в трюмах переселенцев.
- Уважьте! – добавил костистый, протягивая письмо.
Рябков подзамялся.
- Не смей! – повторил Краснолобов.
А Рябков, как глухой. Словно товарища и не слышит. Зато на охранника посмотрел, как на единственную причину, какая ему помешает взять это тонкое письмецо. И что же? Он снисходительно улыбнулся, назвав в душе приятеля паникёром, ибо охранник в эту минуту вдруг отвернулся, зевнул и скучающим шагом поплелся куда-то к реке.
Забирая письмо, Митя заметил глаза подконвойных. Глядели они на него с восторгом, как на безумца, который рискует собой ради них, самых - самых незащищенных.
Краснолобова он догнал на улице Володарской. Хлопнул его по плечу.
- Мимо почты пойдешь. На-ко! Брось его в ящик! – И хотел уже, было, отдать этот маленький треугольник, да увидел лицо Краснолобова – красное и тугое, с нижней губой, с которой выскочило шипенье:
- Шиш на!
Еще более изумился Рябков, когда Краснолобов, не взяв у него письма, чуть ли не опрометью рванул по улице Володарской, и шаги его, удаляясь, стучали по тротуару так зло и быстро, словно спасали его от беды.
(Продолжение следует)