
Это объяснимо. Как фигура исторического масштаба Солженицын сложен сам по себе. С самого начала он не вмещался в рамки ни просто советского литератора с его правами, обязанностями и получаемыми от государства благами, ни внутреннего эмигранта, ни зашоренного диссидента, раскрученного западными спецслужбами.
Возможно, в писателе все понемногу и присутствовало. И каждый участник спора о нем зачастую видит в столь многозначном и многослойном феномене лишь часть целого. То, что хочет видеть. Причем наиболее ярко поляризация мнений проявилась в отношении общественно-политический позиции Александра Исаевича. Литературный талант при этом оказался величиной производной. Для одних Солженицын был и в какой-то мере остался антисоветчиком и вольным или невольным соучастником разрушения СССР как проекта ЦРУ. Для других — самоотверженным борцом против коммунизма как мирового зла.
Все это, однако, примитивные клише. В них невозможно вместить главное, чем обладал автор «Одного дня Ивана Денисовича». Главное же состояло в том, что в Александре Солженицыне, как ни в ком другом, преломился драматический и противоречивый характер тысячелетней русской истории. И писатель стал мощным выразителем этой драмы и этого противоречия.
Двойственность характера нашей истории состояла, с одной стороны, в объективной необходимости порабощения человека государством во имя сохранения национального суверенитета. С другой — в естественном бунте порабощенного, не способного и не желавшего мыслить историческими категориями. Бунт происходит обычно тогда, когда объективная необходимость как-то незаметно превращается в укорененную систему угнетения и незаслуженных привилегий.
Видеть в русской истории и русской действительности только будто бы имманентные тиранию и рабство — значит, ничего не понимать ни в истории, ни в нашем национальном характере. В таком положении самонадеянных и злонамеренных невежд всякий раз оказывались и иностранцы от Кюстина до Бжезинского, и доморощенные русофобы. И крепостное право, и другие формы несвободы были в известной мере объективным требованием своего времени. «России выпала доля, — писал историк русского зарубежья Николай Ульянов, — идти путем подчинения частного общему, личного государственному. Казалось бы, что это и есть путь рабства, о котором твердят ее хулители. Но Россию не случайно сравнивали всегда с военным лагерем, ведшим борьбу на все стороны».
У русских, более чем у других, подчинение государству было во многом вынужденным и сознательным. Оно было следствием тех условий, в которых они вели борьбу за свое историческое существование. Только этим объясняется и наша вековечная отсталость, и другая, чем на Западе, роль государства, состоящая в преодолении этой отсталости. Даже и путем периодического вздымания страны на дыбы. Кстати, эту особенность хорошо понимали Пушкин, Тютчев, а позднее — Ильин, Солоневич.
Солженицыну потребовалось время, чтобы преодолеть в себе наивный либерализм и абстрактное западничество. Помогли ему и неразрывная связь с народом, и 15-летний опыт фронтовика и лагерника. Да еще некая внутренняя сила, присущая только людям большим, незаурядным. Эта сила и позволила ему идти к цели, состоящей в осмыслении трагического прошлого Родины в XX веке и поиске правильных ориентиров для русского народа. «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное колесо» стали вехами на этом пути, с которого писателя не свернули ни слава и богатство, пришедшие с Нобелевской премией в 1970 году, ни насильственное выдворение спустя четыре года из СССР, ни травля со стороны официальных инстанций.
Впрочем, не их одних. Коммунисты и раньше, и теперь не могут простить Солженицыну будто бы многократно завышенных масштабов террора (а кто знает подлинные масштабы?), сионисты — обнародования списка руководителей советских концлагерей, по случайности или нет поголовно оказавшихся лицами еврейской национальности. Писатель держал удары, потому что был уверен в своей правоте.
То, что он быстро изжил в себе узость мышления и психологические комплексы, присущие беспочвенной части советской интеллигенции («малому народу», по выражению академика И. Р. Шафаревича), видно и из полемики, которую Солженицын вел с некоторыми ее представителями начиная с конца 1970-х гг. «Нет у вас русской боли, — упрекал он поэта-модерниста Андрея Вознесенского на страницах журнала «Вестник РХД». — Вот нет — так и нет. Не страдает сердце ни прошлыми бедами России, ни нынешними. Деревянное сердце, деревянное ухо».
Боль за страну и народ была одним из его духовных ресурсов. Из-за нее он и из Вермонта домой вернулся, как только разрешили. И от дарованного президентом Ельциным ордена Андрея Первозванного открестился, не уставая винить новоявленную «элиту» в разграблении страны и обнищании народа. Эта боль была, вероятно, последним чувством, которое он испытал перед уходом в иной мир.














.jpg)


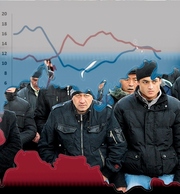



25. Ответ на 24., Метафора:
24. Ответ на 22., Туляк:
23. Ответ на 21., электрик:
22. Ответ на 17., Метафора:
21. 20. Метафора : Re: Солженицын как зеркало истории
20. Re: Солженицын как зеркало истории
19. 18. Метафора : Re: Солженицын как зеркало истории
18. Re: Солженицын как зеркало истории
17. Ответ на 14., Туляк:
16. 13. Метафора : Ответ на 8., электрик: