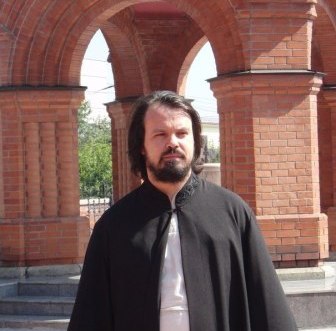
Реформация XVI века, обрушившись с резкой критикой на юридический формализм римо-католичества, тем не менее, в основу своего мировоззрения поставила всё ту же теорию искупления Ансельма Кентерберийского. Творцы реформации полагали, что искажение изначальной чистоты христианства объяснимо злонамеренностью папских иерархов, в то время, как подлинная причина данных нестроений крылась в самой основе юридического учения о спасении. В этом отношении Лютер, Меланхтон и Кальвин пошли еще «дальше» и говорили уже не только об «удовлетворении Божественной справедливости», но и о «гневе Божием, который смогла утолить лишь смерть Христа на Кресте»[i]. Также творцы реформации утвердили концепцию оправдания, согласно которой Христос автоматически оправдывает человека не только от первородного греха, но и от всех вообще личных грехов данного индивидуума, уверовавшего в Иисуса Христа - «оправдание означает не только одно начало обновления, но и то примирение, которое мы получаем впоследствии»[ii]. Другими словами, если римо-католическое богословие подразумевало, что личные грехи должен искупать непосредственно согрешивший, то протестанты объявили, что Иисус Христос искупил личные грехи людей и тем самым оправдал каждого человека, в Него уверовавшего.
При этом протестантское «оправдание» (как и католическое «искупление») не подразумевает каких-либо духовных или нравственных перемен в личности оправданного, но сам термин «оправдание» здесь присутствует в юридическом смысле (seusu forensi), как судебный термин - «провозглашать оправданным»[iii]. Грешник именно получает оправдание вследствие Великого «судебного происшествия», а не очищается, не исправляется, не исцеляется от грехов. В данном случае юридическая система «избавления от наказаний» (разработанная Ансельмом Кентерберийским) полностью перенимается протестантской мыслью - только в их мировоззрении освобождение от личных грехов (оправдание) происходит не в силу заслуг христианина (его добродетелей), а в силу сверхзаслуг Иисуса Христа. Причем, как и у Ансельма Кентерберийского это «оправдание» происходит «извне» - не затрагивая существа самой личности человека (его свободы и волевых способностей) и исключительно благодаря вере (т. е. интеллектуальному согласию с основными положениями христианства). С какой-то даже детской игривой наивностью звучат слова протестантского исповедания: «Мы по-прежнему грешники, но Бог обращается с нами, в силу заслуг Иисуса Христа, как будто бы мы не согрешили, а напротив исполнили закон или как будто бы заслуга Христа была нашей»[iv]. Патриарх Сергий указывал на коренную ошибку протестантства - «Вера человека открывает ему только ту истину, что Бог за его прежние грехи карать его не будет, что, напротив, Он готов его принять и помиловать, признать его Своим сыном. Но, ведь, это, если можно так сказать, только очищает человеку путь к Богу, а не производит что-нибудь с человеком. Доселе человек боялся обратиться к Богу, а теперь он узнал Бога и перестал Его бояться, напротив, полюбил. Но, ведь, человек все еще прежний. Необходимо ему не только полюбить или перестать бояться Бога, но и деятельно, действительно к Нему обратиться»[v].
Другими словами - протестантская модель «спасения» говорит о том, что оправдание происходит не по причине невиновности самого человека (не как следствие искупления им вины или каких-то нравственных изменений в его сознании), а исключительно по всемогущему «оправданию» Христа, которое Он дарует верующим в Него. Данная автоматическая «коробка передач спасения» фактически заменяет (и подменяет) необходимость нравственных и духовных изменений в сознании самой личности верующего, отменяет духовную жизнь, и как таковой религиозный опыт. Если римо-католичество требует от человека пусть и формальных, но все же весьма существенных усилий в аспекте принесения сатисфакций (удовлетворений) Богу за личные грехи, то протестантизм отменяет и это. «Веруешь во Христа - ты спасен, хотя продолжаешь грешить» - так можно несколько грубо и кратко выразить формулу протестантской сотериологии. Патриарх Сергий (Страгородский) восклицал: «Освободить истинного последователя Христова от всех последствий греха (т. е. страданий и наказания - А. С.), но не освободить от самого греха, значит не только не спасти его, но и подвергнуть самой горькой и страшной участи, какую только он может себе вообразить: вечно жить и вечно грешить, - это для него хуже геенны»[vi]. Однако именно этот самообман в конечном итоге утверждает протестантское богословие.
Неоднократно высказывалась мысль о том, что бурное экономическое развитие в странах Западной Европы в XVI-XVII веках обусловлено, в том числе и «торжеством» данной протестантской доктрины. Патриарх Сергий свидетельствует: «уверовать во Христа - дело весьма сложное, обнимающее собою всю душевную жизнь человека, требующее не только внимательности к проповеди, но и отречения от себя, или по крайней мере, отвлечения внимания от себя»[vii]. Однако, если вера и спасение обретаются одним интеллектуальным согласием с основными принципами христианства (как его поняли Лютер, Меланхтон и Кальвин), то данное положение естественным образом «отменяет» духовную жизнь, и, собственно религиозную, как таковую. А, соответственно для обычного человека высвобождается достаточное количество времени, которое куда-то нужно использовать. Если спасение уже «обеспечено», то неминуемо человеку надлежит заняться благоустройством жизни земной. Именно в странах, в которые проник кальвинизм (Швейцария, Голландия, Германия, Франция) в особой степени отмечается фактор экономического развития. Это можно объяснить тем, что в кальвинизме возникает т. н. доктрина предопределения, согласно которой Господь от начала избрал тех, кого спасет и тех, кого погубит. Материальное благополучие согласно этой доктрине является видимым «Божиим знаком» того, что данный человек находится среди избранных-спасенных. У неопятидесятников эта идея вылилась в т. н. «теологию процветания» («евангелие преуспевания») согласно которой «духовный подвиг исповедания веры» венчается богатой жизнью и само исповедание такой «христианской веры» звучит, как «Я богат». Данный пример очень хорошо показывает нам, что буквальное понимание юридической теории спасения свело западное христианство не то что к ветхозаветному уровню, а до уровня весьма примитивных языческих верований.
Итак, богословы конца XIX - начала XX вв. основываясь на комплексном изучении творений Святых Отцов Восточной Церкви (а не произвольных цитаций отдельных педагогических поучений!!!) убедительно показали всю несостоятельность юридической теории. В особой степени это касается применения юридических принципов в аспектах частной духовной жизни. Рассматривать отношения Бога и человека в юридических категориях видится нам крайне несостоятельным. Во-первых: Одна из сторон «договора» - Господь Бог несоизмеримо выше другой - человека, который (согласно логическому мышлению) находится в неоплатном долгу перед Первой. Святитель Василий Великий писал: «Тленный род человеческий достоин тысячи смертей, поскольку пребывает во грехах»[viii]. Абсурдно в таком юридическом контексте ждать от Бога каких-то спасительных «даров» до того времени, пока человек не «погасит» свой «долг», а он не погасит его никогда. Другими словами «правовые отношения» между Богом и человеком в данном контексте с точки зрения юридизма должны быть признаны «в высшей степени несостоятельными». Более того, Господь Бог от начала дарует Свою бесценную Любовь и Благодать безвозмездно, в связи с чем возникает серьезный вопрос: может ли в таком случае нравственное сознание выстраивать с Богом какие-то корыстные «договорные» отношения? Далее, в процессе своей земной жизни человек совершает греховных поступков намного больше, чем праведных, более того, греховность есть естественное состояние человека, а соответственно, «обязательства Бога по спасению человека» не могут вступить в «законную силу» никогда.
Далее, сама земная жизнь человека видится ничтожно малым промежутком времени, нежели вечность и блаженное бытие в оной («ничтожная капля в сравнении с целым океаном»). Более того вечность и вечное блаженство в онтологическом (т. е. по-существу) отношении имеет несопоставимо иную качественную характеристику по сравнению с нашим ограниченным временным бытием (хотя вечная жизнь есть продолжение жизни временной и начало свое берет именно в ней). Другими словами «подвиг» человека всегда будет ничтожен в сравнении с той «наградой», которую («по договору») дарует ему Бог. Наконец, несостоятельность юридической теории искупления демонстрируется тем, что Одна из сторон «договора» - Господь Бог (будучи Вседостаточным) не только не нуждается в том, чтобы человек исполнял предусмотренные «договором» обязанности, но и Сам же являет Себя необходимым и постоянным помощником человеку в исполнении того, что Сам же обязывает его исполнять. В данном контексте абсурдным представляется мнение о том, что человек к чему-то обязывает Бога своими «заслугами».
Безусловно, в Священном Писании и Священном Предании присутствует множество простых для понимания «юридических конструкций», которые в той или иной форме описывают отношения между Богом и человеком, однако таковыми далеко не исчерпывается описание оных отношений. Более того, таковые аллегории не могут стать основой для догматического учения о спасении, равно как и прочие аллегории, встречающиеся в Священном Писании (где бесстрастному Богу приписывается чувство гнева, и Богу, Который есть Дух - «десница») не являются основанием для созидания догматического учения о Существе Бога. Патриарх Сергий (Страгородский) пишет: «Очевидно, здесь действует не jus (юридическая теория спасения - А. С.), - очевидно, этот союз Бога с человеком должен быть понимаем с иной точки зрения, а не правовой, которая его может только исказить, а не объяснить... Вот почему отцы Церкви, употреблявшие аналогию труда и награды, подвига и венца, никогда не забывали и не скрывали от своих слушателей, что это только аналогия, только приблизительное сравнение, существа нашего спасения отнюдь не выражающее, что спасение совершается не по внешнему закону равного вознаграждения»[ix]. В другом месте будущий Патриарх свидетельствует: «эти сравнения остаются только сравнениями, самого существа дела не выражающими и употребляемыми только тогда, когда можно ограничиться одной внешней стороной учения, не касаясь его действительного смысла. Но лишь только дело доходит до этого последнего, школьные формулы приходится оставлять и искать более жизненных определений»[x]
Святые Отцы достаточно часто формулировали свои наставления в юридических категориях, но следует признать, что таковые имели скорее педагогический смысл, а не строго догматический, вероучительный. Сам Иисус Христос часто преподавал Свое учение, Тайны Царства Небесного в причтах, т. е. посредством доступных образов, ибо так появлялась возможность донести христианские истины до определенной части слушающих. Точно так же поступали и Святые Отцы, в педагогических целях живописуя Бога гневающимся судьей на согрешения Его должников. Однако в догматическом контексте неправильно было бы представлять Бога подверженным чисто человеческой эмоции - гневу. Свт. Григорий Нисский пишет по этому поводу: «...Неблагочестиво почитать естество Божие подверженным какой-либо страсти удовольствия или милости, или гнева, этого никто не будет отрицать даже из мало внимательных к познанию истины Сущего»[xi]. Возражая против догматизации юридизма и вытекающего из него антропоморфизма в богословии и ветхозаветного законничества в насущной духовной жизни ему вторит и свт. Иоанн Златоуст: «Когда ты слышишь слова "ярость и гневˮ в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого: это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного; говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых»[xii].
Священное Писание и Отцы Церкви многократно (как в различных образах, аллегориях, так и прямым текстом) говорят о том, что принцип спасения Богом человека основывается не на сухом расчете «заслуг» человека или (у протестантов) Бога. Спасение человека совершается на основании милости Бога (Который есть Любовь) к человеку и на раскаявшемся сердце человека, которое обратилось к исцеляющей грех милости Божией. Через всё Священное Писание красною нитью проходят слова Господа, обращенные к человеку: «будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1:16). И здесь важно поставить акцент - «будьте святы» не потому что «на то воля Моя», а потому что «Я свят». Другими словами святость и есть воля Божия (неотделима от нее), ибо святость сообразна существу Бога и соответственно добродетель и воля Божия всегда тождественны между собой.
В этом отношении душе человеческой естественно искать добра ради добра, жизни ради жизни: душа хочет не числиться только в Царствии Божием, но действительно жить в нем. Патриарх Сергий пишет по этому поводу: «они (западные христиане - А. С.) позабыли истинный смысл жизни и спасения: смысл жизни не в наслаждении, а в святости, и сущность спасения - в освобождении от греха»[xiii]. В этом смысле христианин жаждет Царства Небесного не ради того, чтобы блаженствовать (в земном смысле «наслаждаться жизнью»), а ради того, чтобы обрести святость, для того - говорит свт. Климент Александрийский, - чтобы проводить жизнь по образу и подобию Божию[xiv]. Праведная жизнь же не есть бремя, носимое ради Божественной награды, но согласно словам свт. Иоанна Златоуста «сама много больше всякой награды, потому что сама есть воздаяние, заключающее много наград»[xv]. Святитель Григорий Нисский пишет: «Предел человеческого блаженства есть подобие Божеству»[xvi]. Итак, юридическая теория спасения (искупления) возникает чисто исторически и обусловлена влиянием римской культуры «судебных адвокатов», богословское же основание данной теории очень и очень несостоятельно.
В следующей части работы мы представим Православное понимание Жертвы Христовой с многочисленными цитатами из святоотеческого наследия.
[i] См.: Фокин А. Р. Ансельм // ПЭ. Т. II. М., 2001. С. 482; Огицкий Д. П., Козлов М., свящ. Православие и западное христианство. С. 87-91.
[ii] Apologia Ausb. Conf. III (40). Hase. 90
[iii] Apologia Ausb. Conf. III (131). Hase 109.
[iv] Ibid. 642. Cp.Art..Smalcald. III. Art.XIII(I).Hase 336
[v] Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. https://azbyka.ru/pravoslavnoe-uchenie-o-spasenii#n1
[vi] Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. https://azbyka.ru/pravoslavnoe-uchenie-o-spasenii#n1
[vii] Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. https://azbyka.ru/pravoslavnoe-uchenie-o-spasenii#n1
[viii] Василий Великий, свт. т I, 223. По. XXXII, 5. Изд. 3-е. 1891 г.
[ix] Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. https://azbyka.ru/pravoslavnoe-uchenie-o-spasenii#n1
[x] Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. https://azbyka.ru/pravoslavnoe-uchenie-o-spasenii#n1
[xi] Григории Нисский, свт. Против Евномия. Творения. Ч. VI. Кн. II. М.,1864. С. 428-429.
[xii] Иоанн Златоуст, свт. Беседа на Пс. VI.-2. Творения. Т. V. Кн. 1. СПб., 1899. С. 49.
[xiii] Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. https://azbyka.ru/pravoslavnoe-uchenie-o-spasenii#n1
[xiv] Климент Александрийский, свт. Строматы. IV, 22. Clark's Library, v. XII, 203.
[xv] Иоанн Златоуст, свт.. In Rom. Horn. VIII. (Migne. t. LX, col. 456). Перев. стр. 159.
[xvi] Григории Нисский, свт. Ibid. Migne. l. XL1V. col. 433. т. II. 4.






















86. Re: Жертва Христова: критика прямого восприятия юридической теории искупления в римо-католицизме: Часть 2
85. Ответ на 84., Лев Хоружник:
84. Ответ на 83., Сергей Швецов:
83. Re: Жертва Христова: критика прямого восприятия юридической теории искупления в римо-католицизме: Часть 2
82. Ответ на 79., М.Е.:
81. Re: Жертва Христова: критика прямого восприятия юридической теории искупления в римо-католицизме: Часть 2
80. Ответ на 78., Иоанна:
79. Ответ на 78., Иоанна:
78. Ответ на 77., М.Е.:
77. Настырной спорщице